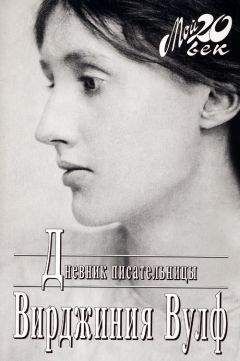1. Романтическая черноволосая дама поет романсы под гитару.
Тамбурджи, тамбурджи! Ты будишь страну.
Ты, радуя храбрых, пророчишь войну…
Косматая шапка, рубаха как снег.
Кто может сдержать сулиота набег? —
нечто искусственное; поза; глупость.
2. Энергичная риторика, подобная его прозе и такая же замечательная, как проза.
Рабы, рабы! Иль вами позабыт
Закон, известный каждому народу?
Вас не спасут ни галл, ни московит.
Не ради вас готовят их к походу…
3. То, что звучит для меня почти истиной и почти поэзией.
Но ты жива, священная земля,
И так же Фебом пламенным согрета.
Оливы пышны, зелены поля.
Багряны лозы, светел мед Гимета.
…И небо чисто, и роскошно лето.
Пусть умер гений, вольность умерла, —
Природа вечная прекрасна и светла.
4. Есть еще чистая сатира, как в описании воскресного Лондона; и…
5. наконец (однако уже больше, чем три) очевидная полупризнанная полуискренняя трагическая нота, которая повторяется как рефрен о смерти и потере друзей.
Что в старости быстрее всяких бед
Нам сеть морщин врезает в лоб надменный?
Сознание, что близких больше нет.
Что ты, как я, один во всей Вселенной.
…Все жизнь без сожаленья отняла,
И молодость моя, как старость, тяжела.[133]
В этом, я думаю, весь Байрон; то, что делает его поэзию ненастоящей, безвкусной, тем не менее, очень переменчивой и уж точно, богатой и гораздо более щедрой, чем у других поэтов, если бы он мог привести все это в порядок. Он мог бы быть романистом. Очень странно читать в его письмах настоящую прозу и чувствовать его искреннюю любовь к Афинам и сравнивать это с банальностью, которую он произносит в стихах. (Там есть даже глумление над Акрополем.) Впрочем, глумление тоже могло быть позой. Суть в том, что если поднимаешься на такую высоту, то приходится забыть об обычных человеческих чувствах; непременно появляется поза; напыщенная речь; остальное лишнее. Он писал в Альбоме, что ему сто лет. И это правда, если мерить жизнь чувствами.
Понедельник, 17 февраля
Температура поднимается, теперь опускается; а я…[134]
Четверг, 20 февраля
Я должна постараться и привести в порядок мозги. Может быть, написать о ком-нибудь скетч.
Понедельник, 17 марта
Тест для книги (с точки зрения писателя) в том, может ли она создать пространство, в котором с полной естественностью высказано то, что хотел высказать автор. Сегодня утром я могла бы повторить слова Роды. Это доказывает, что книга живая: ибо она не изуродовала сказанное мной, а приняла это в целости и сохранности.
Пятница, 28 марта
Ну да, эта книга нечто странное. Я была очень возбуждена в тот день, когда сказала: «Дети не идут с ними ни в какое сравнение». Мы с Л. обсуждали книгу в общих чертах, и я ссорилась с Л. (из-за Этель Смит) и победила; чувствую давление формы — блеск, величие, — как, вероятно, никогда не чувствовала прежде. Однако я не поддаюсь возбуждению и продолжаю упорно работать; и мне кажется, это самая сложная и самая трудная из моих книг. Просто не представляю, как закончить ее, если не всеобщей дискуссией, в которой все виды жизни получат право голоса — мозаикой. Трудность, наверное, в сильном давлении изнутри. Я еще не выработала нужный тон. Все же мне кажется, в ней что-то есть; и я собираюсь напряженно работать, а потом все переписать, читая строчку за строчкой вслух, как стихи. Эта книга выдержит, если ее увеличить. Думаю, я ее слишком ужала. В ней — что бы там ни получилось — большая и важная тема, какой в «Орландо» все-таки не было, В любом случае я себя защитила.
Среда, 9 апреля
Теперь я думаю (насчет «Волн»), что умею несколькими мазками выделить индивидуальные черты в персонаже. Это надо делать храбро, словно рисуешь карикатуру. Вчера я взялась за, вероятно, последнюю часть. Как все другие части, он пишется судорожно, то быстро, то никак. Никогда мне не справиться с ним, он все время тащит меня назад. Но, надеюсь, он придаст вес книге; однако мне приходится очень следить за фразами. «Орландо» и «На маяк» держатся в большой степени на невероятно трудной форме — как это было в «Комнате Джейкоба». Мне кажется, я делаю шаг вперед; но, увы, кое-где за счет огня; мне как будто удалось — стоическим усилием — сохранить первоначальную концепцию. Чего я боюсь, так это переписывания, которое может решительным образом все спутать. Книга обречена на несовершенство. Но, полагаю, мне удалось поставить мои статуи на фоне неба.
Суббота, 13 апреля
Едва закончила писать, как взялась читать Шекспира. Мой мозг еще весь в нем и полыхает, как огонь. Это поразительно. Я даже представить не могла, как он велик — масштаб, скорость, словесная мощь, — пока не вытащила из себя все возможное и, как мне показалось, не стартовала вровень с ним, а потом увидела, что он уже далеко впереди и делает такое, о чем я даже в самых дерзких мечтах и буйных фантазиях не могла помыслить. Даже его менее известные пьесы имеют гораздо большую скорость, чем самые быстрые пьесы любого другого драматурга; слова падают так стремительно, что их невозможно подобрать. Вот: «Upon а gather’d lily almost wither’d»[135]. (Пример совершенно случайный. Просто эта фраза попалась на глаза.) Очевидно, гибкость его ума была столь совершенной, что ему ничего не стоило воплощать в словах цепочки мыслей; и, расслабляясь, он беззаботно проливал на нас целый дождь подобных цветов. Почему у других хватает смелости писать после него? Вот только это не «писание». В самом деле, я бы сказала, что Шекспир обогнал литературу, если бы знала, что это значит.
Среда, 23 апреля
Сегодня очень важное утро в истории «Волн»; мне кажется, что я свернула за угол и вижу впереди последнюю финишную прямую. Думаю, без Бернарда не обойтись. Теперь он будет шагать, пока не остановится возле двери: а потом — последняя картина «Волн». Мы в Родмелле, и, надеюсь, я пробуду тут пару дней (если получится), чтобы не прерываться и довести дело до конца. О господи, потом можно будет отдохнуть; потом статья; а потом обратно к ужасному процессу перекраивания и переделывания. И все-таки в нем тоже есть свои радости.
Вторник, 29 апреля
Я только что написала, этими же чернилами, последнюю фразу «Волн». Мне показалось необходимым это отметить, чтобы не забыть. Да, я познала величайшее напряжение ума; естественно, последние страницы; не думаю, что они провалятся, как обычно. И еще я думаю, что на сей раз в точности держалась намеченного плана. Это я себе в похвалу. Однако мне еще не приходилось писать книгу, в которой было бы столько дыр и заплат, которая требует полной переделки, да-да, а не только отдельных изменений. Предполагаю, что сама структура неправильная. Неважно. Я могла бы написать что-нибудь легкое и простое; а это попытка описать видение, которое у меня было в то несчастливое лето — или три недели — в Родмелле после того, как я закончила «На маяк». (И это напоминает мне — я должна немедленно занять свой мозг чем-то еще или он опять станет ни на что не годным — какой-нибудь фантазией, если только это возможно, и светом; ибо мне еще предстоит утомиться Хэзлиттом и критикой после недолгого божественного отдыха; и у меня в голове уже мелькают смутные тени; жизнь Дункана; нет, что-нибудь о картинах, светящихся в студии; это пока подождет.)