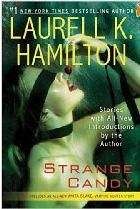В Америке книги Миллера были долго запрещены из-за своей непристойности, хотя их автор, спасаясь от надвигающейся войны, вернулся на родину. Книги эти печатали в Париже, где я их и покупал, задумываясь о несоизмеримости двух языков: в то время их было невозможно перевести на польский — просто из-за отсутствия соответствующих слов. Из этих книг вырисовывается образ, нигде не представленный с такой силой, — образ пустыни нью-йоркских улиц. Молодое поколение повторило бегство Миллера, но по-другому — бросая вызов всей махине общества и своим несчастным, погрязшим в «крысиных бегах» родителям.
После возвращения Миллер написал «The Air-Conditioned Nightmare», «Аэрокондиционированный кошмар» — как он озаглавил свое путешествие по Америке. Он поселился в калифорнийском сельском доме, в Биг-Суре на берегу Тихого океана. Его желание избежать работы с утра до послеполуденных часов в каком-нибудь офисе или редакции стало важной частью войны американского художника за независимость. Если иначе никак, то на работу надо посылать хотя бы своих женщин (так поступал калифорнийский поэт Кеннет Рексрот). Творческая колония в Биг-Суре и другие подобные проявления отстраненности не остались без последствий: страна признала ценность писателей и художников, приняв их в свои кампусы. Гинзберг окончил жизнь профессором.
Великая революция нравов стала следствием бунта молодежи шестидесятых, но почву для нее подготовили такие писатели, как Миллер и beat generation. Это связано с довольно долгой историей преодоления законодательных запретов, защищавших публичную сферу от непристойностей. Еще в 1934–1935 годах состоялся процесс по делу об издании «Улисса» — процесс переломный, поскольку именно тогда появилось разграничение между безнравственностью и вкусом. С тех пор можно было доказывать, что данная вещь есть произведение искусства и оценка ее — вопрос вкуса. Однако лишь после войны начался постепенный отход от применения к издательствам законодательных механизмов. В 1957 году суд снял запрет с публикации «Вопля» Аллена Гинзберга. В шестидесятые годы книги Генри Миллера можно было свободно купить в paperbacks[344].
Приверженцы полной свободы считали себя прогрессистами, борющимися с ханжеством невежд. Теперь, когда можно всё, ничем не сдерживаемая свобода высказывания обнаруживает свои неожиданные аспекты. Быть может, в условиях свободного рынка эта свобода была неизбежна, но в таком случае писатели и художники выступили в роли невольных агентов массовой культуры, которая использует завоеванную ими открытость в своих целях, торгуя эмоциями (особенно в кино) и извлекая выгоду из полного доступа к недавно запретным темам.
Мне кажется, сторонники ограничений справедливо говорят о заражении публичной сферы, однако средства, имеющиеся в их распоряжении, скудны. Вводить цензуру нельзя — остается взывать к общественному мнению в надежде, что его давление приведет к самоограничению властителей кино и телевидения.
Мицинские
Эта семья занимала важное место в моей жизни. Происходила она с Украины. Ближайшим крупным городом к их имению Мокра на берегу Днестра на старом татарском пути была Одесса. Степи, «край богатого чернозема, дубовых лесов, бесчисленных овечьих стад». О детстве Мицинских пишет их близкая родственница, поселившаяся впоследствии в Италии, Ванда Выговская де Андреис, в книге «Между Днепром и Тибром» (Польский культурный фонд, Лондон, 1981). После революции 1917 года семья нашла прибежище в Одессе, а затем уехала в Польшу и поселилась в Быдгоще, который в то время покинуло много немцев, и можно было дешево купить домик «за бабушкины драгоценности». Ися, Неля и Болек ходили там в школу. Потом Мицинские переехали в Варшаву. В тридцатые годы я дружил с Болеком и бывал в их квартире на аллее 3 мая, куда меня впервые привел живший неподалеку, в районе Повисле, Юзеф Чехович. Болеслав изучал тогда философию в Варшавском университете и был начинающим литератором (опубликовал сборник стихов «Хлеб из Гефсимании»). Там же, на аллее 3 мая, я познакомился с факультетским товарищем Болека, Тадеушем Юлиушем Кронским. Болек, выучивший еще в школе греческий и читавший Платона, вдобавок ожесточенно споривший с Виткацием во время своего пребывания в туберкулезном санатории в Закопане, смущал меня своей эрудицией, а вдвоем с Нелей они смущали меня, варвара, своим знанием живописи и музыки, не говоря уже о походах в филармонию.
Незадолго до войны я, скрежеща зубами, делал карьеру на Польском радио и в 1937–1938 годах снимал маленькую квартирку Болека и его жены Халины, урожденной Краузе, на Саской-Кемпе — они как раз уехали на стипендию в Гренобль. После возвращения Болек работал вместе со мной на Польском радио.
Нелю, девушку деликатную и, как мне теперь известно, застенчивую, я возносил тогда на какие-то недостижимые высоты. После учебы в Варшаве и Париже она работала в библиотеке МИДа и дружила с поэтом из «Квадриги» Владиславом Себылой[345] (погибшим потом в Катыни), который посвятил ей один из своих «ноктюрнов».
После начала войны Болек и Халина, которая была на позднем сроке беременности, кое-как добрались до Вильно и Ковно, откуда улетели в Швецию, а затем в Париж, где Халина родила дочь Анну — Дунку, впоследствии специалистку по наследию Виткация. Неля же, эвакуировавшись вместе с министерством, оказалась в Бухаресте, оттуда переехала в Югославию, где жила у своей двоюродной сестры, вышедшей за серба, вплоть до получения французской визы. Во Франции трое Мицинских нашли опору в своих близких друзьях, Казимеже и Феле Кранц[346], которые одно время принимали их у себя в поместье.
После всего пережитого в сентябре 1939 года излеченный туберкулез Болека возобновился, и пребывание в Гренобле и окрестностях превратилось в борьбу с болезнью. Неля помогала Халине ухаживать за мужем и ребенком, однако в конце концов уехала в Монпелье на невыгодную университетскую должность преподавательницы польского языка. Болек успел завершить «Портрет Канта» и несколько других эссе, переписывался с жившим в Швейцарии Ежи Стемповским и умер в 1943 году. Его похоронили в Лаффре близ Гренобля. Неля, за которой охотилось гестапо, скрывалась в горах, но в июле 1944 года появилась в Гренобле, и ее арестовали под тем предлогом, что она якобы еврейка. Шесть недель провела она в лионской тюрьме, где ее допрашивал знаменитый Барби[347]. Она сидела в камере участниц Сопротивления, откуда уводили на расстрел, и все же дожила до прихода американцев. Неля хотела съездить к матери в Варшаву и наконец получила визу как переводчица «Госпожи Бовари» и «Воспитания чувств». Она перевела также «Маленького принца» Сент-Экзюпери и «Мари-Клер» Маргариты Оду, но эти книги зарезала цензура. Несколько раз она приезжала в Польшу и была переводчицей Пикассо на вроцлавском Международном конгрессе интеллектуалов в защиту мира в 1948 году.