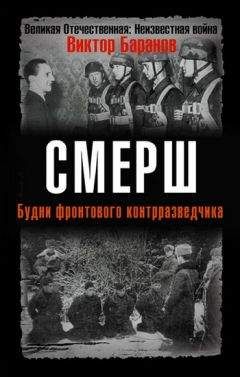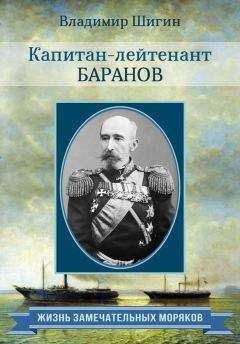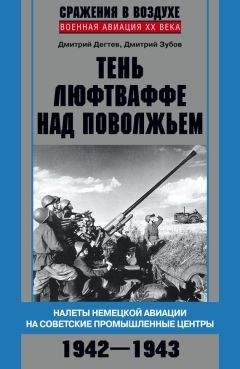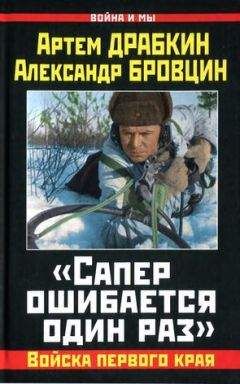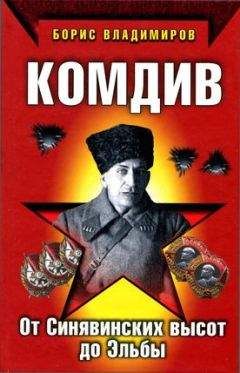Со скрежетом пролетели два вулканических года после роковой сочинской телеграммы Вождя. В Москве прошло несколько разоблачительных процессов, а потом втихую, без публики и адвокатов, на полную мощь заработало Особое Совещание[31] и знаменитые «тройки»[32]. Пожар репрессий перекинулся на периферию.
Это было время, когда органов боялись в стране как огня! В Умани, где Красовский был в командировке, местный отдел НКВД располагался на улице Добролюбова — обыватели стали называть ее улицей Душегубовой. При встрече с сотрудниками органов они переходили на другую сторону улицы. Все шептались об арестах, ходили разные слухи о заговорах против власти, вредительстве, всесилии органов. А радио и печать трубили и призывали к разоблачению врагов народа!
Но удар был нанесен и по самим чекистам. Ежовские «рукавицы» добрались и до собственной когорты. В первую очередь пострадала Лубянка. Многие ее руководящие сотрудники были в близких отношениях с репрессированной партийной верхушкой и прошли через их дела как преступные связи, подлежащие аресту. Красовскому тогда еще не верилось, что его коллеги, кто в гражданскую войну и после нее, рискуя жизнью, выполнял задания партии, вдруг в одночасье стали шпионами и вредителями! Но они признавались, и он сам убеждался в этом, знакомясь с протоколами их допросов.
Во второй половине тридцать восьмого года Политбюро партии приняло закрытую резолюцию, где было выражено недоверие высшим должностным чинам госбезопасности и там же было решено укрепить Наркомат внудел новыми кадрами. Так, на руководящую работу в органы пришли выпускники высших партийных школ, военных академий. Их отличала беспредельная преданность делу партии и лично Вождю народов, возникшая, в основном, не от любви и уважения, а от всеобщего страха перед беспощадной силой репрессий. Заменить репрессированных сотрудников НКВД — а их было около пятнадцати тысяч — партия сумела, но профессиональный опыт, приобретенный в эпоху революции, был утерян, и там же были оставлены принципы соцзаконности, гуманности и революционного благородства! Кроме того, была нарушена необходимая для секретной службы преемственность между старшим и новым, пришедшим ему на смену, поколениями. Поспешное массовое выдвижение на руководящие должности без изучения личных качеств, способностей будущих руководителей разведки и контрразведки, с упованием только на преданность партии и знаменитое ленинское «каждый коммунист должен быть чекистом» вызвало у оставшихся кадровых сотрудников горечь разочарования и досады. Именно в то время на Лубянке родился анекдот о руководящем лице из числа партукрепленцев. К нему поступает рапорт оперработника о намеченной вербовке иностранца, где указывалось, что вербовка будущего агента будет проводиться под «чужим» флагом[33]. Руководитель в резолюции отметил: «Почему пед чужим? Что, у нас своего флага нет?!»
Гораздо позже Красовский понял, что некомпетентность большинства партмобилизованных позволяла им отдавать любые приказания без риска, что у них возникнут сомнения в необходимости и законности их выполнения. Это было удобно для руководства партии и НКВД! Многие из партийного пополнения, как ему стало известно по возвращении с Колымы, отсеялись, не выдержав темпа работы в органах, нервных перегрузок, обязательных ночных бдений. Но какая-то часть приспособилась, закрепилась, втянулась, постепенно наращивая свой чекистский опыт работы.
Глава XVIII. НАЙТИ ВИНОВНОГО
Красовский в душе с предубеждением относился к тем, кто прибыл в органы по партразнарядке, однако его нынешний шеф — майор Ковалев Сергей Николаевич — был для него исключением. В отделе его ценили за работоспособность, цепкость ума: он мог по незначительным деталям восстановить картину события. Кроме того, он был умеренным сторонником обвинительного уклона по оперативным разработкам, а по делам дознания строго придерживался закона. Полковник Туманов называл его за приверженность к соблюдению юридических норм «законником», но был всегда уверен в объективности его суждений и заключений по возникающим делам.
Майор Ковалев был душевным человеком; от студенчества в нем сохранились открытость и умение ценить дружбу. Четыре курса юрфака Московского университета давали ему возможность логично и четко излагать свои мысли и быть главным составителем докладных записок для отчета перед фронтовым управлением контрразведки. В его университетском образовании глубокий след оставили лекции представителей старой школы юристов-законников с вольнодумствующим уклоном и новой — во главе с восходящей на юридическом небосклоне звездой — профессором Вышинским. От старой школы остались привнесенные в его сознание сомнения по вопросам внутренней политики советского государства, а из новой — необходимость мер принуждения при строительстве социализма в отдельно взятой стране, при нарастающем сопротивлении свергнутых классов! О масштабах и истинной направленности репрессий он имел до поступления в органы смутное представление.
Однажды, а это случилось вскоре после освобождения Смоленска, Туманов поручил ему провести среди личного состава их армии розыскные мероприятия по выявлению лиц, имеющих какое-либо отношение или знающих, при каких обстоятельствах Смоленский партийный архив[34] попал к немцам. Никто, кроме всесильного начальника «Смерша», генерала Абакумова, не знал замысла этих мероприятий. Только он был посвящен в их предысторию. Разве мог генерал забыть тот майский день запоздалой весны сорок второго года! Его неожиданно вызвал к себе в Кремль сам Хозяин! Генерал редко видел его в таком возбуждении. Не здороваясь, он встретил его со словами: «Товарищ Абакумов, ви чувствуете, когда ваши подчиненные вам врут?!» И, не дожидаясь ответа, набирая обороты злости, с еще большим акцентом, сверкнув желто-коричневым (не по возрасту!) блеском глаз, он прошел мимо него грозный, неумолимый, пахнущий крепким табаком. И генералу безумно хотелось в этот момент не только вытянуться, что и было сделано, а упасть на колени, целовать руки Вождя и принять из них любую кару! Ну а он, умевший с одного взгляда определять истинную преданность, понял душевное состояние генерала и, устав от вспышки гнева, продолжил: «Ваши люди в августе прошлого года доложили мне, что при отступлении из Смоленска все ценное и достойное было эвакуировано на Восток, а сейчас выясняется, что забыли самое главное — партийный архив! Преступно забыли и отдали фашистам самое ценное оружие! Ви, генерал, еще мальчишка и нэ знаете, что такое архив партии, и я вижю по вашим глазам, что нэ знаете и нэ представляете, во что это ротозейство обойдется нашей партии и государству!» Потом гроза миновала, и, облегченно вдыхая свежий весенний воздух, генерал сел в свой «Паккард» с номером МА-09-99. Не удержавшись, все-таки поехал в Колпачный переулок: там его верный слуга — полковник Кочегаров — уже присмотрел для его постоянного местожительства особняк, где до революции была глазная клиника доктора Снегирева. Расторопный секретариат вечером того же дня подготовил генералу справку о том, что могло быть в Смоленском партархиве, а в приемной уже сидел бледный и трясущийся от страха главный архивариус государственного Октябрьского архивного хранилища, большевик с дореволюционным стажем Иосиф Перельман. Но откуда ему было знать, зачем и почему его привезли на Лубянку? Но Абакумов знал, что из справки он не почерпнет того, что может рассказать живой, насмерть перепуганный специалист о значении архивов. Хозяин, как всегда, был прав! Оказывается, там хранились все документы со времен создания первого Совета рабочих и крестьянских депутатов, первого губкома РКП(б)! Ну и, понятное дело, там осели все решения, постановления, направляемые из ЦК партии времен гражданской войны.