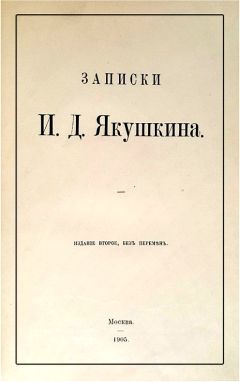В известном смысле можно сказать, что это была уже не развязка, а эпилог. Якушкин впал в экстремальное состояние. Он заболел, болезнь была тяжкой, вроде бы, кажется, вновь вспыхнула какая-то «лихорадка», которую он получил еще в походах. Вместе с тем, как видим, у него возникали мысли о самоубийстве. В одном из писем он говорит о намерении отбыть в Америку — «ничего нет ни ужасного, ни чрезвычайного в этом проекте: тысячи и тысячи людей предпринимают это путешествие, одни, чтоб избежать скуки, другие может быть, чтобы быть полезными, сражаясь за независимость народа, который кажется достойным свободы». Речь шла о Южной Америке и участии в борьбе против испанского господства там. Были у Якушкина и иные, не менее экстравагантные порывы. Правда, прежде всего он вроде бы собирается решить свой «крестьянский вопрос», то есть освободить от крепостной зависимости своих крестьян. Предприятие, как помним, завершается неудачей. И не только, естественно, потому, что Якушкину чинились всякого рода препятствия со стороны «властей», как при упоминании об этом характерном эпизоде постоянно говорится в соответствующих работах, посвященных декабризму, но и по явному несовершенству самого плана, самой идеи Якушкина освобождения крестьян без земли. Эмоциональный порыв в этом случае у Якушкина, пожалуй, превозмог его политико-экономические потенции. Впрочем, подобного же рода проекты пытались в ту пору осуществить и иные деятели декабристского круга. С объективной точки зрения все это было своеобразными экспериментами, своеобразным моделированием на подходах к серьезной постановке самого важного и самого мучительного для декабристского движения вопроса о «рабстве». Но для Якушкина осуществление его проекта решения «крестьянского вопроса» имело еще и особый внутренний смысл. «Когда же это кончится, — пишет он по поводу осуществления своего проекта в одном из писем, — я буду считать себя свободным или, по крайней мере, рассчитавшимся с своею совестью». И тогда… Что «тогда» — не очень-то все-таки ясно. Прежде всего потому, что к тому времени Якушкин уже успел «хлопнуть дверью», покидая то совещание его друзей-декабристов, на котором был отвергнут его вызов на цареубийство. План самого акта цареубийства, предложенный Якушкиным, был достаточно вроде бы прост, но очень характерен.
«…Александр Муравьев сказал, что для отвращения бедствий, угрожающих России, необходимо прекратить царствование императора Александра и что он предлагает бросить между нами жребий, чтобы узнать, кому достанется нанесть удар царю. На это я ему отвечал, что они опоздали, что я решился без всякого жребия принести себя в жертву и никому не уступлю этой чести… Фонвизин подошел ко мне и просил меня успокоиться, уверяя, что я в лихорадочном состоянии и не должен в таком расположении духа брать на себя обет, который завтра же покажется мне безрассудным. С своей стороны я уверял Фонвизина, что я совершенно спокоен, в доказательство чего предложил ему сыграть в шахматы и обыграл его…»
И. Д. Якушкин. ЗапискиУже и тут много примечательных деталей. Я не говорю о том приеме, которым Якушкин предложил Фонвизину сразу решить вопрос, до какой же все-таки степени он, Якушкин, спокоен. Естественно, Фонвизин со своей стороны не оплошал и тут же, проиграв Якушкину, успокоил того вполне относительно своих подозрений по поводу состояния Якушкина. Характерно и беспокойство Фонвизина, который, как помним, был вполне осведомлен во всех «сердечных тайнах» Якушкина и даже принимал некоторое участие в них. Характерно еще и твердое заявление Фонвизина, что важные политические решения нельзя принимать в «таком состоянии духа», в котором находился тогда Якушкин, то есть нельзя принимать их в состоянии экзальтации, лихорадочного порыва, отчаяния. Это соображение Фонвизина объективно имело не только частный и личный характер, но и выдавало собственную его нравственно-психологическую установку в делах Общества. Но, пожалуй, самое главное здесь для нас не все это, а вопрос о том, когда же это, собственно, Якушкин успел созреть для принятия столь радикального решения; ведь несколько фантастическое известие о некоторых намерениях царя, которое столь взбудоражило действительно декабристов-северян тем, конечно, прежде всего, что вроде бы свидетельствовало о стремлении императора перехватить у них политическую инициативу в решении судеб империи, было получено только что? Откуда возникла эта внутренняя подготовленность Якушкина к самым крайним решениям самыми «крайними» средствами, откуда, иными словами, взялся весь этот взрыв экстремизма у такого человека? Версия следствия известна, она в значительной степени подтверждается свидетельствами иных товарищей Якушкина по Обществу. Но тут, конечно, очень важно внимательно вслушаться в то, что говорит по этому поводу сам Якушкин в своих «Записках», оглядываясь на весь этот инцидент уже в определенной социально-исторической ретроспекции.
«Совещание прекратилось, и я с Фонвизиным уехал домой. Почти целую ночь он не дал мне спать, беспрестанно уговаривая меня отложить безрассудное мое предприятие, и со слезами на глазах говорил мне, что он не может представить без ужаса ту минуту, когда меня выведут на эшафот. Я уверял, что не доставлю такого ужасного для него зрелища. Я решился по прибытии императора Александра отправиться с двумя пистолетами к Успенскому собору и, когда царь пойдет во дворец, из одного пистолета выстрелить в него, из другого — в себя. В таком поступке я видел не убийство, а только поединок на смерть обоих…»
И. Д. Якушкин. Там же…Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал.
С этими пушкинскими строками имя Якушкина становится нам и известно. Поэт рифмует свое имя с именем Якушкина — имя Якушкина оказывается едва ли не первым из всех декабристских имен, которые мы узнаем в своей жизни. Словосочетание «меланхолический Якушкин» остается в нашем сознании навсегда. Эта оценка тогдашнего состояния духа Якушкина неприметно для нас распространяется в нашем представлении на образ и характер человека вообще. Какой Якушкин? Меланхолический. Якушкин был «меланхоликом». А что это значит сейчас для нас, что это определение говорит нам сейчас? Дело даже не в том, что само слово «меланхолический» в рукописи Пушкина читается лишь предположительно, дело в том, что сейчас лишь до известной степени предположительно можем восстановить тот реальный, конкретный смысл, который это слово имело во времена Пушкина и Якушкина. А слово это было непростым. Оно вообще очень непростое слово. Как бы закрепленное Пушкиным за Якушкиным в роли постоянного эпитета, оно не могло быть случайным. Не только потому, что у Пушкина вообще нет «случайных слов», а потому, что Пушкин ведь знал Якушкина. И потому мимо этого слова, говоря о Якушкине, пройти вообще нельзя. Но сказано оно было Пушкиным применительно к тому именно Якушкину, каким Якушкин был или, по мнению поэта, должен был быть в момент «злоумышления на цареубийство», в том душевном состоянии, которое так встревожило Фонвизина.
Современная психология понятия «меланхоличность», «меланхолик» связывает с представлением о типе такого темперамента, при котором повышенная чувствительность и душевная ранимость («сензитивность») сочетаются с внешней заторможенностью проявления чувств. А «сензитивность» — это уже прямо, как пишут в соответствующих изданиях, «см. комплекс неполноценности», способ преодоления которого и определяет, как полагают современные психологи, «стиль жизни» данного человека.
Наверное, изложение еще надо было бы перевести на язык той «социально-исторической психологии», которой нет как специальной научной дисциплины, но которая несомненно существует в неопознанном, так сказать, состоянии во всех литературных произведениях «на исторические темы». Но, во всяком случае, уже понятно, что смысл, который вкладывали современники Пушкина в слово «меланхолия», «меланхолический», не вполне совпадает с тем, который вкладываем в это слово мы. Это ясно. И тут надо будет еще нечто прояснить. Но вот — о понятии и термине, которых не знали ни Якушкин, ни его современники, несомненно, зная само явление как таковое. Ведь «комплекс неполноценности» — понятие, которое можно и, видимо, должно толковать и как «отражение» личностью отчужденности ее от окружающего мира, как бы нависающего над ней и давящего ее самим фактом своей непреложности. И тут означенное понятие выявляет всю свою обратимость. А как, в самом деле, будет выглядеть этот самый «комплекс» и связанный с ним «синдром меланхолии» в том случае, когда с точки зрения определенной социально-исторической перспективы не личность, а условия, ее окружающие, оказываются несостоятельны в своих «претензиях»? Не обратится ли в подобном случае означенный «комплекс» в свидетельство «неполноценности» самих условий, окружающих личность и притязающих на некий диктат по отношению к ней и какому бы то ни было ее суверенитету? Кто и что в такой ситуации окажется «неполноценным»? И выражением какой именно реальной ситуации в данном случае окажется «меланхоличность» субъекта? Тут «бабушка еще надвое сказала».