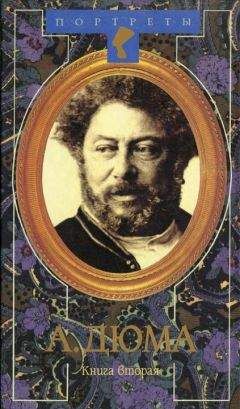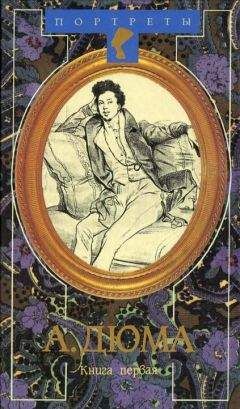На соседнем столе лежала молодая девушка, бросившаяся в Сену от несчастной любви.
Если и вправду мертвые в полночь вступают в беседу, эти два трупа, должно быть, порасскажут друг другу много грустного!»
Александр возвращается к себе на Амстердамскую улицу «глубоко опечаленный. Я видел Жерара де Нерваля одним из последних; и я любил его, как любят ребенка». Дома он находит письмо от Мери, который просит Александра взять на себя инициативу в сборе денег на могилу Жерару по подписке. К сему марсельский поэт прилагал на редкость бездарную надгробную эпитафию в тридцати двух стихах. Поэтические вкусы Александра известны, он помещает в «Мушкетере» свой ответ Мери: «Бедняге Жерару не нужно теперь ничего, кроме черной мраморной плиты с вашими стихами. Могиле поэта — королевскую эпитафию». Сбор денег Александр предлагает организовать во время званого ужина у Рашель. Однокашник Жерара Теофиль Готье и Уссей просят оставить «ревнивой дружбе печальную радость воздвигнуть и оплатить этот камень». Александр соглашается. Но в результате плиту оплатит он сам, а за место на кладбище заплатит Литературное общество[124]. К счастью, стихи Мери на плите так и не были выбиты, но Бодлер, на похоронах не присутствовавший, дабы не внимать «отвратительно скучной проповеди» и не принимать участие в «изощренном убийстве поэта», напишет Жерару превосходную эклогу в прозе в «Очерке об Эдгаре По»[125]: «Сегодня, 26 января [1856] ровно год, как тихо, никого не обеспокоив, так незаметно, что скромность эту можно вполне принять за презрение, от нас ушел писатель поразительной честности, высочайшего и здравого ума, который никогда его не покидал, освободив душу свою на самой мрачной из всех возможных улиц».
Поскольку доктор Бланш засвидетельствовал, что Жерар покончил с собой в состоянии умственного расстройства, в соборе Парижской Богоматери имела место религиозная церемония в присутствии двухсот человек, «там были все славные имена», кроме ссыльного Гюго. «Какое-то количество набожных женщин явилось помолиться — кто за поэта, кто за самоубийцу». Среди них и Мари Дюма, «она очень любила Жерара, которого сотни раз пыталась утешить ласковым словом, секрет, известный лишь молодым и красивым. Вскоре появилась таинственная корреспондентка, которая согласна была на все, дабы свершилась блестящая литературная карьера, которой, как ей казалось, она достойна. Ибо она много чего уже успела написать и в том числе «Мир живых цветов»[126], опус, навеянный душераздирающими названиями входящих в него новелл, типа «Страдания фиалки», «Болезни розы», «Смерть бабочки», «Камелия и вьюнок». И как раз сей последний «шедевр», согласно ее авторитетному мнению, она и принесла в «Мушкетер» в начале октября 1854-го. До сих пор ей всюду отказывали, несмотря на невероятную настырность. Только чтобы от нее отделаться, «le Pays» взяла у нее «Золотой бутон», достоинства которого легко себе вообразить, но так его и не напечатала. И теперь, когда она являлась осуществлять свои «справедливые требования», приходилось звать полицию, чтобы ее выдворить. В «Мушкетере» к этой крайности пока не прибегали, но едва она появлялась, всех словно ветром сдувало. Александр, со своей стороны, «вот уже три недели смутно слышал о некой даме, которая за это время раз сорок или пятьдесят приходила в редакцию «Мушкетера», заставила всех редакторов одного за другим заниматься ее рукописями, а газету — их печатать. Из всех этих слухов, дошедших и до меня, подобно тому, как слух о грядущей смерти Ифигении дошел до Ахилла, следовало, как я понял, что манускрипты этой дамы были непечатаемы.
Повергнув редакцию в состояние глухой обороны, Клеманс Бадер решает взять штурмом самого патрона, и ей удается с ним встретиться. У Александра на этот счет существует две версии. Согласно первой, Бадер добилась от кухарки Розины, чтобы та положила ее рукопись на стол Александра. Кончилось тем, что он ее прочел и принял автора, дабы сказать ему, до какой степени это плохо. По второй версии, ему доложили о мадам Бадер, он решил, что речь идет о носившей ту же фамилию «молоденькой и хорошенькой особе из театра Водевиль», и по ошибке позволил впустить «писателя незрелого, но при этом глубоко запускающего свои корни». Стоит ли уточнять, что в то время актрисы с такой фамилией не существовало? Так или иначе, но он не устоял перед вулканическим неистовством дамы и после упорного сопротивления согласился-таки ее напечатать. Подобная капитуляция совершенно не в его духе. Возможно, что ей удалось его тронуть напоминаниями, что он не всегда был знаменит и был бы рад, если бы в свое время и ему протянули руку помощи. А может быть, имел место и третий вариант, учитывая, скажем, психологическую структуру Александра? Каким-то способом Клеманс Бадер проникает в дом Александра. И застывает на пороге в ослеплении: «Какой красивый мужчина! Именно об этом в восхищении подумала я, увидев вас». «О! Прекраснейший!» — снова вскричит она чуть погодя. Она попадает в точку, он на мушкетерский манер проверяет силу произведенного впечатления, она приводит себя в порядок, он берет ее текст.
Результат всех трех возможных вариантов одинаково катастрофичен. Александр не мог решиться напечатать «Камелию и вьюнка» в их первоначальном состоянии. Он правит текст, и его улучшенная версия выходит под названием «Приключения вьюнка». Бадер вопит об искажении и через судебного исполнителя требует публикации первоисточника. Александр смиряется, сопроводив публикацию «Беседами», в которых высмеивает даму, вышучивает ее манеры, претензию полагать себя большим писателем, ее обильные ошибки в орфоэпии, синтаксисе и орфографии. В ярости она хочет подать на него в суд. Все наслышанные о деле адвокаты от участия уклоняются. Александр ставит своего противника в смешное положение, но редакторам «Мушкетера» не до смеха: униженные пренебрежением патрона к их единодушному неприятию текста «Камелии и вьюнка», они все вместе покидают редакцию.
Клеманс Бадер не оставляет своих притязаний на укрощение «прекрасного льва от литературы». Она бросает свои цветочки и за свой счет печатает памфлет «Александр Дюма-Солнце». Ей далеко до Мирекура, и даже расистские выходки выглядят у нее мило: «Кстати, господин Дюма, мне говорили, что вы были чернокожим, я же увидела вас скорее в сером цвете». Она добавляет, что была ослеплена этим «красавцем», что не мешает ей, однако, чуть дальше упрекнуть его в чванливом выпячивании его «трех подбородков». Себя она выставляет провинциалочкой, занятой лишь «созданием своих романов и их публикацией», хотя при этом и «женщиной достаточно отважной, чтобы потягаться с ним талантом», не более и не менее. Есть у нее и удачные пассажи: «И как же он доволен, этот господин Дюма, своим «Мушкетером»! Как он себя ласкает, как лелеет в его колонках, резвится, радуется, любуется, восторгается собой в своих владениях». Однако она быстро впадает в банальность, когда говорит, что Александр занимает слишком много места, мешает существованию других писателей, что, не обладая особыми достоинствами, он сделал из себя «Солнце с шестьюдесятью лучами». «Но сияние Солнцу сообщают его лучи. Так вот, лучи Солнца, имя которому Дюма, это его соавторы, как говорят, их у него предостаточно, шестьдесят!» И на них и зиждется его успех: шестьдесят талантов, собранные вместе, составляют «один большой». В заключение этого не слишком уж ядовитого памфлета — некое предложение о заключении мира: «За сим, мой прекрасный литератор с сотнями томов, мое красное Солнышко с тысячью миллионов дюжин лучей, я подбираю коготки и выражаю вам свое почтение вплоть до новых встреч и удовольствия снова вонзить их в вас». И тем не менее отныне Клеманс Бадер начнет публиковаться и в ближайшие тридцать лет с некоторым успехом выпустит штук двадцать творений. Вне всякого сомнения, опустошивший редакцию «Мушкетера» тайфун по имени Клеманс настолько запугал издателей, что они уже не осмеливаются отказать даме. Стало быть, с этими последними писателю имеет смысл скорее быть террористом, чем соблазнителем.