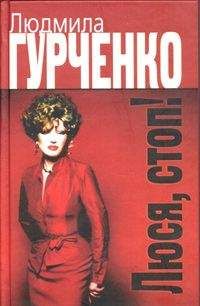Что такое, по-нашему, толстый человек? Когда много бедер и они плавно переливаются в то место, где была раньше талия. Ну, немного живота, а главное — пушистые бедра. А теперь поставьте человека в профиль. Ну опять же — живот. Но главное — человека много. Он — урожай.
Но это наш, российский урожай. А если заморский, то картина — о! Заднее место в профиль отстает сантиметров на тридцать, а то и на все полметра. Оно колышется и улыбается. Оно живет своей жизнью. Когда я первый раз увидела такой профиль, я неприлично ойкнула на всю улицу. А «профиль» идет себе весело и бодренько и ни в зуб ногой. Это было возле «Макдоналдса». С тех пор он у меня всегда ассоциируется с пышным задом и со скороспелыми химическими гамбургерами.
Когда у нас открылся первый такой буфет-забегаловка и стояла очередь как к Ленину в Мавзолей, занесла меня туда нелегкая с друзьями. Наелась до одури и с собой еще прихватила кулечек с нежными яблочными пирожками. Вечером съела остывший пирожочек — все! Смерть мухам и тараканам. «Макдоналдс» — закрыт навсегда.
Но детишки умирали от этого буфета. Ели-ели, уже и джинсы порасстегивали. А Капошная превращалась в Капошенную. А все хочется и хочется, нравится и нравится. И это, и это. И с собой кулечек. Для бабули Лёли. А в машине хруп-хруп. Что делать? Ведь Лёля так любила кушать. Больше всего на свете. А они ведь ее правнуки! Передалось через поколения. Нет, пойду-ка я к своим деревенским тетушкам на базар. Там еще осталось что-то живое, натуральное. Почему я пишу о всякой ерунде, вдруг сейчас пришедшей в голову? Глупости все это. Все огородами да околицами. Почему? Да потому, что не могу вот так, реально, понять, представить, произнести. А написать…
Умер мой Марик. Все. Его нет. Декабрь 1998 года. Ему было 16 лет. За три дня до этого мне сделали операцию гнойного гайморита, заработанного еще в семьдесят пятом году на съемках фильма «Двадцать дней без войны». Делала я десятки проколов, но вот лежу в больнице. Надо сделать операцию. Это декабрь. А в мае я уже сделала операцию справа. Теперь слева. Лежу и все думаю, думаю, вспоминаю, что все мои болезни я заработала, как говорил папа, «честь по чести» на своей любимой работе. В кино. Все: перелом ноги, откуда все разладилось в организме после общих наркозов, болей, костылей, палок. Мучительный гайморит. А сколько мелких травм и холециститов с колитами. Лежу и думаю, что через две недели у меня спектакль, где нужны большие физические и душевные силы. А после этой операции — плохой анализ крови. Лежу, думаю, слышу, вижу, вспоминаю, веду диалоги…
Ах ты, моя любимая Родина! Все тебе отдала. Что ж ты так… Не могу себе позволить не работать. А как жить? Нет, лучше не думать о годах, силах, возрасте, деньгах…
Ну, когда же придет Сергей Михайлович? Но вот он пришел. Ходит по палате и молчит. Молчит и молчит. Да что же это такое? И точно, как почти во всех сценариях «она взяла себя в руки». Я взяла себя в руки и молчу. Кто кого перемолчит. Эта странная зловещая тишина затягивалась.
— Ну, рано или поздно все равно будет известно. Я не могу молчать. Случилось… случилась… трагедия с Мариком.
— В Англии?
— Нет, он уже прилетел.
— Заболел?
— Нет.
— Попал под машину?
— Нет.
— А что хуже? Ну не умер же?!
— …
— Умер? Господи! Да вы что?!
— Позвонил на автоответчик парень и сказал, что с Мариком несчастье, срочно позвоните ему домой.
Он умер от передозировки. В шестнадцать лет. От меня скрывали. Вот откуда невероятные повороты в поведении моей мамы, Маши…
Нет моего любимого мальчика. Ах, какие у меня были на него надежды.
«Люся, я все понимаю. Я тебя люблю».
Всё. Рухнула моя радость. Разрушились мои надежды. Больше мне терять нечего. Нечего и некого бояться и стесняться. Вхожу теперь, не оглядываясь, в свой подъезд. Могут подстрелить из-за угла и чем-нибудь жахнуть по голове. Да черт с ним! Все равно! Свобода. Демократия! И никто не узнает — кто, за что и почему. Кто Листьева? Кто Старовойтову?
Когда я росла в закрытой невыездной стране и ждала светлого будущего, людей сажали в черный воронок, как врагов народа. А через двадцать лет реабилитировали за «неимением улик». Так когда же было лучше жить? Тогда или сейчас? Это точно, что не дай вам бог жить в «переходный период». Да, демократии американской двести лет. Но я живу сегодня. Сейчас! Сей-час!
В Институте кинематографии я впервые узнала слово «репрессия». Отец моей дочери Борис Андроникашвили был сыном писателя Бориса Пильняка. Естественно, такой фамилии не знали, о таком писателе не слышали. В двадцатые и начале тридцатых его имя гремело. Загремел он в тюрьму после «Повести непогашенной луны».
На даче Пильняка в Переделкине в 1937 году отмечали день рождения его сына Бориса. Сыну было три года. В гостях друзья — известные писатели, художники. Борис Пильняк вдруг отозвал жену и, глядя в окно, сказал:
«Кира, это за мной».
Вышел из дому и сел в черный воронок:
«Я скоро. Иди к гостям».
Больше его никто никогда не видел. А вечер продолжался.
Борис, естественно, носил фамилию матери — Андроникашвили. Она отсидела как жена врага народа четыре года. Кира Георгиевна Андроникашвили была женщиной необыкновенной. Красоты совершенной. Высокая и аристократически худая. Понимаю, что так не выражаются, но иначе не могу, не знаю. Просто аристократическая женщина. Во всем. Как ела, как говорила, как умела слушать и слышать. Как отличала человека, изнутри деликатно устроенного от Бога, от начитанного умника. Иногда я думаю, что для встреч с такими редкими людьми тоже стоит жить. Я ее ждала у прокуратуры, где она получила маленькую бумажечку: «Борис Вогау (Пильняк) посмертно реабилитирован за неимением улик». Ни где, ни когда умер или убит, ни где похоронен. Ничего.
Пильняк — это псевдоним. На хуторе Пильнянка он написал свой первый рассказ. С 28 октября тридцать седьмого года до лета пятьдесят восьмого обвинялся. А улик «неимение».
Для меня открывались вещи невероятные. А как же 1 Мая? Самый светлый праздник! А как же «за Родину, за Сталина»? А как же Победа? Все тогда перемешалось в моей темной совковой голове. А может быть, большинство людей верили и не знали этого? Вот как я? Если бы я впустила тогда в свою жизнь эту трагедию на сто процентов, — нет, ничего бы я не сыграла. Ничего. Не было бы ни «Карнавальной ночи», ни «улыбки без сомнения». А поселились бы одни горькие сомнения. Тупик.
«Не-е, дочурка, я так думаю, што у нашей семье, вокурат, собралася уся советская власть! А може, даже и увесь плюс электрофикация усиеи страны. Во якое дела».
Когда я рассказала папе, что за реабилитацию семья получит тринадцать тысяч рублей, он долго думал, долго соображал, смотрел в окно. Очень долго.