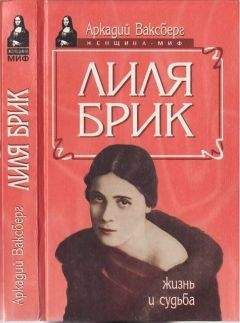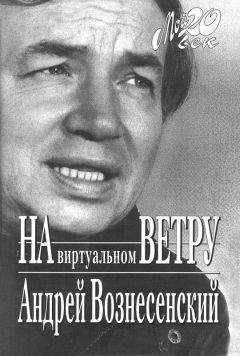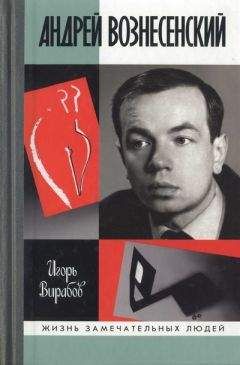Яншин все еще в полной мере не мог представить себе, какую роль пришлось ему играть в этой кровавой драме. Но очень короткое время спустя неизбежный развод состоялся — лишь после этого Нора призналась ему во всем. Рассказала об их любви, о близости, о планах на совместную жизнь с Маяковским. «Какой подлец!» — только и мог вымолвить Яншин.
Татьяна была уже в Варшаве, где виконт Бертран дю Плесси работал во французском посольстве коммерческим атташе и где супруги обосновались после свадебного путешествия по Италии. Она ждала ребенка и чувствовала себя вполне счастливой. Эльзе не пришло в голову известить ее о случившемся — ведь Татьяна теперь была далеко, перестав быть объектом ее интересов. О гибели Маяковского Татьяна узнала из газет. 24 апреля она писала матери в Пензу: «Я совершенно убита. <...> Для меня это страшное потрясение». И тут же в том же письме: «Вообще — это не страшно».
Мысль о случившемся, однако, не покидала ее. 2 мая того же года она снова писала матери: «Я ни одной минуты не думала, что я — причина. Косвенно — да, потому что все это, конечно, расшатало нервы, но не прямая, вообще не было единственной причины, а совокупность многих плюс болезнь». Болезнью она, разумеется, называла тягчайшее психическое расстройство. Так же из газет узнала о свершившемся и Элли Джонс...
Официальные советские власти вообще не отреагировали на гибель Маяковского. Отставной Бухарин, как и отставной Луначарский, публично заявившие о своей скорби, власть уже не представляли, а лубянские бонзы действовали на правах личных друзей, но не должностных лиц.
И все же отзвук в самых высоких верхах эта трагедия получила. Нельзя же считать простым совпадением, что 18 апреля, на следующий день после потрясших Москву похорон, Сталин решил продемонстрировать монаршье расположение к художникам слова. Он позвонил гонимому Михаилу Булгакову (накануне участвовавшему, кстати, в похоронах Маяковского) и заверил его в своем покровительстве. Уже в мае Булгакову дали работу в Художественном театре, создав для него унизительный пост «режиссера-ассистента». Так или иначе гибель одного гения причудливым образом, хотя бы на время, спасла другого, никоим образом к нему не причастного и чуждого ему абсолютно.
Чуждого? Абсолютно? Это еще как сказать...
Июль 1967 года. Переделкино. Фрагмент моей записи беседы Лили с македонским журналистом Георгием Василевски:
«Ничто не предвещало трагического конца. Володю очень любила молодежь, его ждали повсюду, его вечера проходили с огромным успехом. Любая газета, любой журнал считали за честь напечатать его новое стихотворение. Выходило собрание сочинений. «Баню» одни ругали, другие восхищались. Но ото нормально, он привык к дракам и даже к брани, в такой обстановке он только и чувствовал себя хорошо. Некоторые до сих пор считают, что в его гибели виноваты женщины. Эти люди просто не знают и не понимают Володю. Он был очень влюбчив и даже самую маленькую интрижку доводил до космических размеров. Он и в любви оставался поэтом, все видел через увеличительное стекло. С Татьяной Яковлевой уже давно было покончено, он понял, хотя и не сразу, что там нет никакого будущего, только тупик. А Нора Полонская — это вообще несерьезно, сколько было у него таких увлечений? Десятки! И они проходили, как только девочка во всем ему уступала, подчинялась его воле. С Норой произошла осечка. Она была замужем и прекрасно понимала, что никакой жизни с Володей у нее не будет, Нет, дело не в Норе. Володя страшно устал, он выдохся в непрерывной борьбе без отдыха, а тут еще грипп, который совершенно его измотал. Я уехала — ему казалось, что некому за ним ухаживать, что он, больной, несчастный и никому не нужный. Но разве я могла предвидеть эту болезнь, такую его усталость, такую ранимость? Ведь с него просто кожу рвали разные шавки со всех сторон. Стоило ему только слово сказать: «Оставайся!», и мы никуда бы не поехали, ни Ося, ни я. Он нас провожал на вокзале, был такой веселый...»
Июнь 1968 года. Париж. Запись моей беседы с Эльзой Трипле в ее доме на улице Варенн:
«Давайте посмотрим, какая фраза предшествует в предсмертном письме Володи перечислению состава его семьи? «Лиля— люби меня!» Почему? Потому что самое главное для него — это Лиля, самое главное — это его любовь к ней. Никто не мог ему ее заменить, и ничто не могло заставить его отказаться от Лили. Теперь.смотрите: с кого начинается список членов семьи? Опять же с Лили, а не с матери, не с сестер и, уж конечно, не с Полонской. Ома вставлена туда только из-за благородства Володи. Он же понимал, что, давайте говорить откровенно... Он же поссорил ее с мужем, разбил семью. Значит, был обязан о ней позаботиться. Он считал, что это долг любого мужчины. И только поставил Нору в ужасное положение. Ни одна разумная женщина, даже влюбившись в него, не могла поддаваться этому чувству, если ей была дорога своя жизнь. Потому что Лилю он никогда бы не бросил, а какая женщина стала бы делить себя с ней? У Володи было множество влюбленностей— где они все, те, в кого он влюблялся? Кто для них Маяковский и кто они для Маяковского? Встреча с ним — это самая яркая страница в их биографии, в их жизни. Прикосновение к гению, возвышавшее их в собственных глазах. Он выходил из себя, встречая сопротивление, это было очень эгоистично с его стороны, но иначе он не мог, иначе оп не был бы самим собой. А они инстинктивно защищались, боясь сгореть в его огне, как мотыльки. Если бы ему ответили той же гиперболической страстью, он сам бежал бы, потому что ему такое же мощное ответное чувство было совершенно не нужно. Если хотите, его до поры до времени прельщала именно их сдержанность, их холодность, необходимость мобилизовать все свои ресурсы, все свое обаяние, чтобы растопить лед. Когда в этом не было больше нужды, он остывал сам. А с Лилей ничего подобного было не нужно, Лиля была частью его самого, неотторжимой частью. И он для нее тоже. Верность ему и его творчеству она пронесла через всю жизнь».
Декабрь 1976 года. Москва. Монолог Лили за рождественским столом в ее квартире на Кутузовском проспекте и в холле при прощании:
«Володя боялся всего: простуды, инфекции, даже — скажу вам по секрету — «сглаза». В этом он никому не хотел признаваться, стыдился. Но больше всего он боялся старости. Он не раз говорил мне: «Хочу умереть молодым, чтобы ты не видела меня состарившимся». Я его убеждала, что его морщины будут мне дороже чистого лба, что буду целовать каждую из них, что мы будем стариться вместе, и, значит, это не страшно. Но он всегда стоял на своем. Я думаю, эта непереносимая, почти маниакальная боязнь старения сжигала его и сыграла роковую роль перед самым концом. Мне кажется, в ту последнюю ночь перед выстрелом достаточно мне было положить ладонь на его лоб, и она сыграла бы роль громоотвода. Он успокоился бы, и кризис бы миновал. Может быть, не очень надолго, до следующей вспышки, но миновал бы. Если бы я могла быть тогда рядом с ним! <...> Вот эти два кольца, его и мое, я стала носить на шнурке после его ухода и ни разу с тех пор не снимала. И мне кажется, что мы с ним не расставались, что он и сейчас рядом со мной».