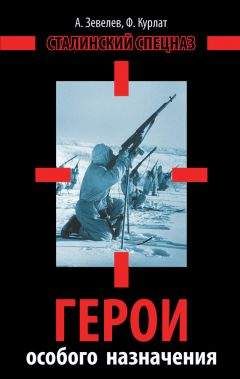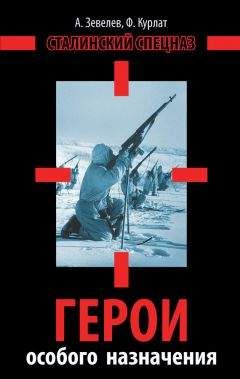Все, что было после этого дня, было одиноким и бесцветным. Армейские казармы, стрельбы на полигонах по движущимся и недвижущимся целям; потом война, битва под Киевом, битва на Барвенковском, под Малыми Ровеньками; потом - серия зеленых ракет под Калачом и этот сегодняшний бой под Соломками, панически бегущий по огороду майор, трупы-калачики артиллеристов на площадке. "Воспитание!... Что может знать капитан о воспитании?!" Табола все еще ходил по блиндажу из угла в угол и сосал нераскуренную трубку. Он мог бы сказать Пашенцеву, что он думает вообще о воспитании: нужно было не просто уговаривать майора, не гладить по головке, мол, будь, пожалуйста, смелым, решительным, честным, а бросить на кровать с набитыми вверх острием гвоздями, на рахметовскую кровать, и посмотреть, есть ли у этого человека мужество; Табола мог бы еще сказать, что зачем воспитывать то, что не поддается воспитанию: "Глуп тот, кто верит, что из дерьма можно сделать конфету". Но Табола ничего не сказал капитану. Он снова подумал о Марии: где она, что делает, как живет? Она была по ту сторону фронта, за белгородскими высотами, в Калинковичах; в это третье лето войны она, повидавшая людское горе и сама испытавшая ужасы оккупации, насмотревшаяся на казни и аресты, - ночью колуном зарубила пристававшего к ней гитлеровца и ушла из города; она пробиралась сейчас сквозь Пинские болота к Брянским лесам, к партизанам.
- Я согласен, выдвинем в березовый колок два орудия.
- Хорошо бы и на левом фланге иметь подвижную группу автоматчиков. Третья рота настолько ослаблена...
- Имейте.
- Если бы она была у нас!
- Хотите из артиллеристов?
- Да.
- Свободных нет. Впрочем, из взводов управления смогу выделить человек двадцать.
- Это было бы отлично.
Хотя Пашенцеву так и не удалось поговорить с артиллерийским подполковником о Барвенковском сражении, но зато удалось другое - выдвинуть орудия в березовый колок и усилить левый фланг группой автоматчиков; о" хорошо понимал, что со своим батальоном должен во что бы то ни стало удержать деревню, потому что от этого зависела, может быть, и судьба фронта, и его личная судьба; ведь в конце концов разве можно жить спокойно с позорным, главное - незаслуженно позорным пятном в биографии! Он уходил от подполковника и с радостным, и с тревожным чувством, будто в самом деле предвидел, что уже никогда больше не встретится с этим нужным ему человеком. "Юнкерсы" еще бомбили, когда капитан вышел из сырого, оборудованного под блиндаж школьного подвала. Он не пошел в третью роту, опасаясь, что немцы сразу же после воздушного налета начнут новое наступление, и поспешил на командный) пункт. С Володиным он уже говорил позднее, по телефону, когда была налажена связь.
Но немцы на этот раз не сразу начали наступление - около часа "юнкерсы" беспрерывно бомбили село, едва улетала одна партия, как в небе появлялась другая, и все повторялось сначала - вытягивание в цепочку для захода в пике, завывание сирен, оглушительный грохот рвущихся бомб и пыль, все заволакивающая, густая, удушливая; когда в разрывах поднятой пыли проглядывали клочки неба, было видно, как там, вверху, шел воздушный бой, истребители гонялись за истребителями, и рев их моторов, как стон, слоился над землей. Еще последние "юнкерсы" кружились над Соломками, когда начала бить немецкая артиллерия; казалось, и канонада была на этот раз сильнее и длилась дольше, и только после того как огонь был перенесен в глубину, на опушке леса, перед гречишным полем, снова появился черный танковый ромб. Он полз, расширяясь, шевеля боками, направляя острие опять в центр обороны третьей роты. Пашенцев опустил бинокль; он подумал о солдатах, на которых сегодня в четвертый раз наваливалась эта огромная, громыхавшая гусеницами лавина; в эту секунду, пока протирал стекла, Пашенцев успел мысленно охватить всю свою жизнь - узловую Рузаевку, морг в станционном дощатом складе, крестьянскую избу в Малых Ровеньках и чердак, заваленный старой рухлядью, где он, раненный в ногу полковник, лежал на соломенной подстилке, накрытый старым лоскутным одеялом, и по утрам к нему приходила хозяйская дочь Шура, приносила хлеб и листья подорожника для ран, где он создал свою философию жизни: витки вниз с кровавыми зарубками, витки вверх с кровавыми зарубками; особенно ясно ом представил себе сейчас эти витки и с горечью и болью подумал: "Когда, чьим отцам суждено поставить точку на спиралях войны?"
Когда черный танковый ромб уже подползал к гречишному полю, к Пашенцеву на командный пункт пришел командир батареи гвардейских минометов, "катюш", и сказал, что прислан командованием поддержать соломкинцев. Вместе с ним пришли два бойца и принесли рацию. Не дожидаясь приказа, они тут же принялись настраивать ее и уже через минуту доложили своему старшему лейтенанту, что связь с огневой установлена.
Больше чем чему-либо капитан Пашенцев был рад этой неожиданной помощи, но с тем же спокойствием, как все делал в этот день, сперва пожал руку командиру батареи "катюш", а теперь наблюдал, как тот торопливо набрасывал расчеты, подавал по рации команды.
Глава двадцать вторая
Из того, что пришлось пережить Володину под Соломками в этот первый день Курской битвы, сильнее всего запомнилось отступление; и не самый момент, когда рота, отбившая шесть танковых атак, покидала траншею, а длинная ночная дорога, батальон, вытянувшийся в полуверстовую колонну, и зарево горевших вокруг деревень. Он шел в середине колонны, во главе своей роты - двадцати оставшихся в живых солдат; шелест подошв о дорожную гальку и стук перекидываемых с плеча на плечо автоматов напоминали шорох и стук засыпаемых могил; Володин никак не мог отделаться от этого впечатления; он снова и снова видел ту глубокую воронку, в которой еще днем, возвращаясь из санитарной роты в траншею, прятался от надвигавшейся танковой лавины и в которой теперь, перед уходом из Соломок, похоронили семерых солдат и младшего сержанта Фролова. Особенно жаль было младшего сержанта. Он лежал на дне воронки, спокойный, серьезный, сделавший свое дело воин, и это спокойствие, эта удовлетворенность на мертвом лице поразили Володина. "Не все умирают одинаково, одни - тяжело, другие легко; и живут не все одинаково, одни - тяжело, другие - легко". Засыпали воронку торопливо, комки земли падали на голенища сапог, неприятным могильным шорохом растекались по гимнастеркам убитых; дольше всех оставался незакопанным младший сержант Фролов, и Володину теперь казалось - теперь, когда картина похорон вставала в воображении, - будто тело Фролова все время выплывало на поверхность; только когда все пятеро, закапывавшие погибших товарищей, подошли к Володину и стали подгребать землю из-под его ног, над могилой быстро вырос невысокий серый холмик. С обочины принесли несколько камней и положили у изголовья. Ни креста, ни звездочки, ни имен на фанерной дощечке, а только четыре серых дорожных камня... Погибли эти семеро и младший сержант уже после боя, когда рота, растянувшись вдоль обочины, проходила через развилку; над дорогой неожиданно появился немецкий истребитель и обстрелял колонну из пулемета; он пролетел так низко, почти на стометровой высоте, что Володину показалось, будто он увидел лицо летчика. Вспоминая сейчас о погибших, о воронке, над которой теперь высился серый могильный холм, Володин кропотливо восстанавливал в памяти все подробности этого неожиданного воздушного налета: и лицо летчика, и черные кресты в желто-белом обрамлении на крыльях "мессершмитта", и угловато-стремительную форму всего самолета, и клокотавший огонек у пулеметного ствола; самым странным было то, что никто не слышал шума мотора и не видел самолета, - "мессершмитт" словно вдруг вырос над колонной, и солдаты, понуро шагавшие вдоль обочины, были застигнуты врасплох; они попадали уже тогда, когда струйка цокающих пуль ударила по дороге. "Подкрался, гад, подкараулил, убийца!" Володин кропотливо восстанавливал в памяти подробности налета не потому, что вновь хотел увидеть эту страшную картину, - он просто не мог отделаться от мысли, что семеро солдат и младший сержант Фролов погибли совершенно нелепой, глупой смертью; он подумал, что на войне, пожалуй, большинство погибает нелепо и глупо. Вопросы, на которые он еще вчера мог без труда ответить одной-двумя фразами, сейчас представлялись ему совершенно неразрешимыми. Он вспомнил слова санитара: "Бьют людей, как мух!" - и эти слова, хотя он и не хотел повторять их, хотя и протестовал против сути, которую они выражали, - он все же беспрерывно повторял их и даже старался произносить в такт устало-неритмичному шагу; он произносил их с иронией, с насмешкой, стараясь заглушить ими горечь пережитых минут, горечь отступления, произносил для того, чтобы затем навсегда вычеркнуть их из памяти, потому что твердо знал - нет, не бессмысленной была смерть тех, кто остался лежать под Соломками, кого баюкала теперь вечная тишина братских могил. Он еще думал с горечью и раздражением о том, что на войне трудно проявить личность, что тот, кто сидит за чертежным столом и изобретает новое оружие, - больше солдат, чем тот, кто стреляет из этого оружия, горбясь в тесном сыпучем окопе; сколько было у него, лейтенанта Володина, хороших порывов, и ничего не удалось осуществить. Батальон отступает; весь полк отступает; вся Шестая гвардейская армия откатывается на новый рубеж. Почему? Этот вопрос тоже вставал в мыслях Володина, и на него тоже не было ответа. Все, что он знал о сорок первом, о сорок втором, когда после сражения на Барвенковском плацдарме наши армии, потрепанные и обессиленные, отходили к берегам Волги, все, что слышал о тех тяжелых днях от Пашенцева, Царева, Бубенцова: скопища у переправ, разбитые машины, повозки, лошадиные и людские трупы по обочинам дорог, - те кровавые картины отступления, казалось ему, вновь повторяются здесь, на Курской дуге; была битва под Москвой, было сражение у берегов Волги - и об этих победоносных боях знал и не раз слышал Володин, но сейчас он отходил, отступал, подавленный и удрученный, и потому, прежде всего, в памяти возникали те горькие картины первых месяцев войны; он смотрел на зарева горевших деревень, на залитые багрянцем пожара сгорбленные солдатские спины, прислушивался к грохоту канонады, гремевшей вокруг, именно вокруг, как замкнутое кольцо, и еще не испытанное чувство большой утраты охватывало его; он думал, что теперь, пока выровняется фронт, пройдет много недель, хотя точно знал, что батальон к рассвету должен выйти к хутору Журавлиный и занять оборону на высотках у леса; и еще знал, что на опушке того леса тянутся готовые окопы и блиндажи, что там, в окопах, рота получит первое пополнение; он думал о переправах, о нелепой гибели от бомбежек, хотя ему уже через семь дней предстояло увидеть иные переправы, иные скопища у берегов русских рек - скопища немецких машин, трупы немецких солдат, трупы, трупы, трупы, и он, лейтенант Володин, не будет считать это нелепостью, а, напротив, скажет, что это вполне закономерно, что так и должно было случиться, что это - справедливое возмездие, которое заслужили фашисты; произнесет эти слова с усмешкой, может быть, чуть похожей на пренебрежительную усмешку подполковника Таболы, и не станет разглядывать молодые и старые лица убитых немецких солдат... Он идет по шоссе, во главе своей роты - двадцати оставшихся в живых солдат; безрадостные, гнетущие мысли охватывают его. Там, у развилки, где так нелепо погибли семеро бойцов и младший сержант Фролов, той же пулеметной строчкой из "мессершмитта" был смертельно ранен командир батальона капитан Пашенцев; во всяком случае, так определил фельдшер Худяков, перевязывавший рану. Сначала Пашенцева, потерявшего сознание, несли на носилках, потом уложили на одну из автомашин проходившей мимо батареи; Володин вспомнил, как недовольно хмурился командир батареи, которому, очевидно, не очень-то хотелось брать этот груз, но он все же приказал освободить место для раненного в живот пехотного капитана; у командира батареи была перебинтована голова, и на белом бинте, над виском, виднелось расплывшееся черно-коричневое пятно. Так же, как поразившее Володина спокойное лицо младшего сержанта Фролова, как это, артиллерийского офицера с окровавленным бинтом над виском, - всплывало сейчас в воображении и осунувшееся лицо Пашенцева; в сумерках оно казалось особенно синим и безжизненным.