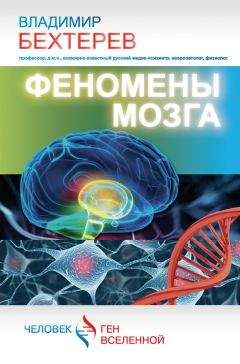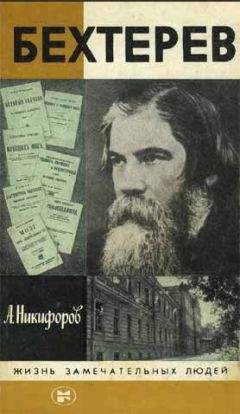теплого весеннего дня.
— Ну как? — спросил Киров.
— Красиво, — прошептала она. — Вон мой дом, второй с дальнего края…
— Хочешь, заедем туда? — предложил Киров.
— Нет, пусть он останется таким, каким я его запомнила, — ответила Мильда.
Потянуло дымком с поляны, где егерь Василий Митрофанович зажаривал на вертеле кабанью ногу. Снег шуршал в пихтовой хвое, день медленно гас, прибавляя синьки в воздухе, а они, глупые, залезли на дерево и уже полчаса стоят, обнявшись, наслаждаясь покоем и тишиной леса.
— Мироныч! Ау! Миля! Нога готова! Где вы там? — кричит Василий Митрофанович. — Пора спускаться.
Рюмка водки и маленький кусочек пахнущего дымком нежного мяса молодого кабаненка вскружили голову. Митрофаныч наливает еще, но Киров решительно отказывается: надо еще в баню идти. Веники нарезаны, баня настоялась.
Они парятся всласть, Мильда не выдерживает обжигающего воздуха крепко натопленной баньки по-черному, и первая выскакивает в снег, кричит, падая в сугроб. Еще через мгновение вылетает Сергей, гоняется за ней по пушистому снегу, как оглашенный. Вокруг никого: лес, избушка егеря и банька. Василий Митрофаныч, наблюдая за ними, тоже хохочет, изредка прикладываясь к рюмашке. Они залетают снова в баню, Сергей выплескивает целый ковш на раскаленную каменку, Мильда приседает на корточки, но обжигающее облако заставляет ее лечь на пол. Сам Сергей вынужден присесть, хватается за уши.
— Уши еще в юности прижег, и теперь мочи нет терпеть, — кричит он, выскакивает в предбанник и, надев треух Митрофаныча, врывается обратно, залезает на полок и жарится снова до жгучей красноты по всему телу. И с радостным воплем снова выскакивает в снег. Потом он моет ее, и они целуются, охваченные жаром и новой страстью.
После бани возвращаются к костерку. Мороз совсем не чувствуется, его будто нет, а тихий снег идет и идет. Киров выпивает пару рюмок с Митрофанычем, вспоминая Суворова, предлагавшего продать последние штаны и выпить. Мильда тоже выпивает рюмку, во рту все горит, она заедает снегом, а Киров с Митрофанычем смеются. От кабанятинки идет такой сладкий аромат, что кружится голова, мясо тает на языке.
— А говорили, что у кабана мясо жесткое! — удивленно восклицает Мильда.
— Это у старого, — дымя горькой махоркой, отвечал егерь. — А у молодых, — он лукаво посматривает на нее, — мясо всегда сочное да мягкое!..
Митрофаныч поит их ядреным квасом с изюмом, который шибает в нос, как шампанское.
— Я тебе изюму привез! — напоминает Киров Василию Митрофанычу. — Не забудь забрать!..
Ночь незаметно укрыла лес густой, гулкой тишиной. Так тихо вокруг, что слышен шорох снежинок и лай собак далеко в деревне, где когда-то жила Мильда. Оказывается, Митрофаныч даже знал ее отца.
— А как же! Он мне еще плотничать помогал. Вот эту самую баньку вместе ставили, а потом впервой и парились. И тебя видел!.. — щеря гнилой рот, улыбается он. — То-то я глядел и понять не мог, кого ты мне напоминаешь!
— Надо же!.. — удивляется Мильда.
— И я тебя помню! — поддакивает Киров. — Соседская девчонка в Уржуме, ну вылитая ты, копия, — говорит он Мильде. — А я за ней бегал. Она комичка была. Я уж потом узнал: коми, финны, венгры — все к одной расе принадлежат, даже язык один. А ты же родом из Прибалтики. Вот и получается, что виделись.
— А ты что, влюблен в нее был? — спрашивает Мильда.
— А как же! — полушутя-полусерьезно отвечает Киров.
Лес стоит, не шелохнувшись, завороженный падающим снегом и тишиной. Вдруг раздается чей-то долгий протяжный вой. Мильда вздрагивает.
— Волки? — пугается она.
— Они не подойдут, — отмахивается Митрофаныч. — Они меня знают и обходят стороной.
Он уже пьяненький. Киров отводит его спать в баню. Там тепло. Мильда тушит костер, и они отправляются отдыхать в домик егеря. Василий Митрофанович сам так установил.
После бани они быстро засыпают, но в три часа утра уже на ногах: впопыхах забыли закрыть вьюшку, и по избе гуляет ветер. Сергей приносит дров, затапливает печь, они разогревают жаркое из зайца, едят, а потом просто лежат, обнявшись, глядя, как прыгают на полу отсветы пламени. Сегодня днем им уезжать, расставаться, и от этого накапливается грусть.
— Еще целых десять часов до отъезда, — успокаивает ее Сергей. — Я тебе обещаю, что мы сюда обязательно вернемся. Весной знаешь, как здесь хорошо! От лесных запахов, как в бане, угораешь…
— И день длинный, — добавляет Мильда.
— И короткая ночь, — улыбается Киров.
— А ты что, меня любишь? — шепчет она.
— Конечно, — полушутя-полусерьезно отвечает он.
И целует ее в нос. Она фыркает, смеется. Он снова целует ее в нос. Она отбивается, но он сильнее. Он сильнее… Воспоминания тускнеют, гаснут, и Мильда проваливается в пуховую постель сна. Ей снится Киров. Они бегают по лесу, Сергей пытается ее поймать, но Мильда, смеясь, убегает от него все дальше и дальше в глухую чащу, становится тревожно, меркнет яркий свет. Мильда оглядывается и вдруг видит, что вместо Кирова за ней с диким ревом бежит медведь. Она пугается, бежит сломя голову, но медведь настигает ее, она уже слышит его тяжелое дыхание за спиной, его когтистая лапа хватает ее за платье. Мильда кричит в отчаянии и просыпается. Уже утро. Николаев перепуган ее криком, успокаивает, гладит: еще полчаса она может поспать, он ее разбудит. И она снова засыпает. Ей не хочется просыпаться здесь. Ей не хочется его видеть.
Утром без пятнадцати девять Николаев пришел в институт, заявившись прямо в приемную Лидака. Он знал, что Отто Августович приходит на работу за полчаса до начала, и восстановленному партийцу очень хотелось, чтобы к девяти, когда начинается рабочий день, все формальности были бы закончены, и он занял бы свое привычное место за письменным столом у окна в секторе истпарткомиссии.
Николаев вошел в кабинет и остановился. Лидак читал бумаги и, подняв голову, посмотрел на него. Это был долгий и странный взгляд. Не злобный, не ненавидящий, а странный. Точно Лидак хотел увидеть в нем что-то такое, о чем не догадывался и сам Николаев.
— Меня восстановили в партии, Отто Августович, — сказал Николаев и не смог сдержать улыбки.
— Знаю, — ответил Лидак.
— Вот я пришел, — сказал Николаев.