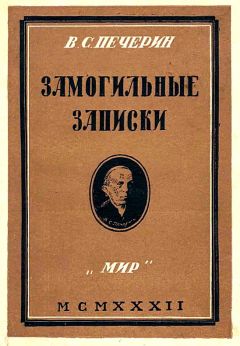Итак патер Лукс (Lux) приехал к нам с истинно-католическим вкусом в живописи и в музыке, с самым высоким понятием о самом себе, с гордою надеждою, что он обратит всех протестантов в истинную веру своею кистью и своим голосом. По примеру всех великих гениев, он начал все преобразовывать, все переделывать по-своему: расписал, размалевал всю нашу крошечную церковь сверху до низу с весьма сомнительным вкусом и надобно признаться что живопись его была довольно плоха. Случилось, что сардинский военный корабль остановился вФальмутской пристани; священник (aumonier de la flotte) пришел нас навестить. Мы показали ему свою церковь как какое диво. Взглянув на живопись, он с улыбкою сказал: «Non era un Raffaele questo pittore»[328]. А когда ему объяснили, что этот non Raffaele именно стоявший возле него патер Лукс, то он расхохотался и размахнувшись руками сказал: «Eh bien! je vous en félicite!»[329]
В католической церкви нет крылоса, нет сословия дьячков и певчих, а на хорах поет всякий мирской сброд, особенно молодые люди и девушки, что подает благоприятный случай к волокитству, и это оперное пение, как и все театральные пьесы, часто оканчивается счастливым браком. Патер Лукс, приехавший с намерением победить всех протестантов, сам остался побежденным и вместо того, чтобы обратить их в католическую веру, сам был совращен в языческую веру известного всем древнего бога Купидона. На хорах у нас была новообращенная католичка — очень хорошенькая девушка и наша лучшая певица. Ей часто приходилось петь дуэты с о. Луксом. Вообрази себе их поющих вместе: Ah! per ché non posso allearti In fede com’ io! Ma del tutto anchor non sia cancellato dal mio cuor![330] Им случалось часто видеться вне церкви. Надо же поговорить о музыке, выбрать и расположить ноты, надо спеться, сделать репетицию — мало ли каких потребностей не найдется у музыкантов и певчих. Он влюбился в нее по уши и их взаимная привязанность сделалась слишком очевидною для всей почтенной публики, так что настоятель принужден был запретить о. Луксу видеться с ней наедине. Из этого вышла ссора, перехвачено было какое-то письмо. Настоятель не хотел его выдать — Лукс насильно выхватил его и даже поднял руку на своего начальника во время самой молитвы…
Это все та же самая древняя история — и на театральной сцене и на сцене жизни, в монастыре, в хижине и в царских палатах — везде владычествует вечный присносущий непобедимый бог любви, ему же царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Этой драме или комедии или трагедии могла быть одна развязка: в одно прекрасное утро очень рано патер Лукс вышел из нашего дома одетый по-светски с зонтиком в рукам, молча пожал мне руку, кивнул головою и пропал бог весть куда. Его любезная, — очень порядочная девушка, — разумеется, не последовала за ним, но, как говорили, очень великодушно доставила ему средства путешествовать. И этим кончается мой роман. Теперь, слава богу, дошли до конца: за это мне дайте стаканчик винца (из древней поэмы).
1-го мая 1848.
Десять лет назад это число казалось мне так близким, как будто вчерашний день; а теперь оно отодвинулось в такую туманную даль, что уж принадлежит к годам первой юности, (хотя мне тогда было за сорок лет). 1-го января 1875 будет ровно 30 лет с тех пор, как я в первый раз вышел на берег Англии. Страшно и подумать! В это время целое поколение людей успело родиться, вырости и умереть. Хотя мне и грустно было расставаться с Фальмутом, но все ж таки эластическая упругость юной жизни брала свое. Я ехал в Лондон полный веры, надежды и любви, с беспрекословным повиновением, с неограниченным доверием к людям. — Я ехал как солдат, идущий в поход по приказанию начальства… куда? зачем? против кого? за кого? — А мне какое дело? Приказано да и только! Жизнь — копейка, командир — наживное дело! Мною тогда обладал дух, самопожертвования. «Величайшая и достойнейшая жертва, какую человек может принести богу, это — пожертвовать своим разумом и волею». На это можно теперь возразить, что если отнять у человека разумную свободу, то что же останется? — Хорошо дрессированная скотина, лошадь или собака, выкидывающая разные штуки по мановению хозяина. Но к этому именно и стремится вся система иезуитов. По словам св. Игнатия, иезуит в отношении к своему настоятелю должен быть как бездушный труп, как посох в руке старца и пр.
С Паддингтонской станции (Paddington station) я взял извощичью карету (cab) и меня везли каких-нибудь два часа, пока мы наконец достигли отдаленного южного предместья Клапам (Clapham). Лондонские предместья беспрестанно расширяются, открываются новые улицы, дома растут как грибы, те же нумера повторяются с прибавкою капитальных букв. Едва-едва мы отыскали небольшой домик под каким-то № 85 В, где отец де-Гельд остановился у нашего приятеля и благодетеля Фильпа (Philp). Он теперь значительный книгопродавец в Лондоне. Отец де-Гельд принял меня с отверстыми объятиями, выхваляя мое быстрое повиновение (prompte obéissance). Этой быстроте повиновения много содействовал мой почтенней настоятель в Фальмуте, отец де-Бюггеномс. Он нарочно поспешил отправить меня в пятницу для того, чтоб не дать мне случая сказать прощальное слово народу в воскресенье и получить от него знаки сочувствия. Этот человек (т. е. де-Бюггеномс) терпеть не мог ни соперника, ни равного. Он, казалось, беспрестанно повторял себе слово Кесаря: лучше быть первым в деревушке, чем вторым в Риме.
В тот же вечер я имел случай видеть начало нашей деятельности. Полдюжины маленьких девочек, составлявших католическую школу, под надзором г-жи Фильп собрались в маленьком садике, где им раздавали разные премии и потчевали чаем с пирожками. — В доме г. Фильпа не было отдельной комнаты для меня, и так меня отправили на ночлег в другую улицу в дом двух престарелых девиц, составлявших всю католическую аристократию Клапама. Клапам в то время был твердынею самого строгого евангелического протестантизма. Нога католического священника никогда там не бывала. Главное население состояло из богатых купцов, отправлявшихся каждое утро в 9 часов с омнибусом в Сити в их торговые конторы. Кое-где в закоулках и глухих переулках гнездились кочующие семьи бедных ирландских работников — это была наша будущая паства.
Незадолго до нашего приезда поселилась в Клапаме некая г-жа Гобриан (Goesbriand) из Бретани: она составила какое-то общество светских дам, связанных некоторого рода монастырским уставом и занимающихся разными богоугодными делами. Мы поселились покамест в их доме: нам отвели две комнаты с столовою и мы жили у них на пансионе. Из двух других комнат сделали довольно обширную залу: тут мы поставили алтарь и это была наша первобытная церковь. В воскресенье, бог знает откуда, набралось довольно народа, так что зала была наполнена. Монсиньор Талбот (бывший после папским камергером — chamberlain, а теперь находящийся в доме сумасшедших), в очень лестных выражениях представил иди отрекомендовал народу отца де-Гельда как опытного миссионера, объехавшего Европу и Америку. При вечерней службе я говорил проповедь, от которой все были в восхищении и после этого наша маленькая церковь всегда была битком набита, так что люди задыхались от жару. Меня пригласили проповедывать в самом Лондоне в большой католической церкви св. Георгия, и тут уж были стенографы, записывавшие каждое мое слово. Нас было двое: о. де-Гельд и я, и мы по — возможности строго соблюдали монастырский устав. По утру в половине 5-го я будил моего почтенного настоятеля, и мы вместе преклоняли колена и совершали утреннюю молитву и духовное размышление (méditation), потом следовала обедня и пр. и разные сношения с нашею паствою. О. де-Гельд или фон-Гельд (Held) был очень хорошей австрийской фамилии и монашеская жизнь ни мало не испортила его прямодушно-твердого и благородного характера: он обходился со мною очень деликатно, с какою-то отеческою любовью и вместе с тем с величайшим уважением: у него была поэтическая рыцарская душа и он понимал подобные чувства в других: он умел вполне оценить мои таланты и давал им надлежащее направление. Он был моим Моисеем, я был его Аароном: я доселе храню благодарную память о нем. Когда брат Ф. Печерин прощался со мною в Лондоне в 1851 году, о. де-Гельд сказал ему: «Скажите его родителям, что вот уже, более 6-ти лет как я его знаю, а он ни разу ни на одну минуту не огорчил меня».