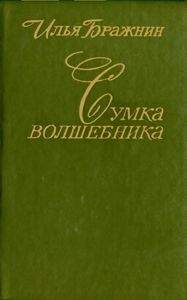Каждую субботу мы с нетерпением ожидали выхода нового выпуска Ната Пинкертона. Пяти копеек на его покупку у нас обычно не оказывалось, но копейку, которую требовал газетчик за прочтение выпуска, мы почти всегда находили.
Нат Пинкертон недолго оставался в одиночестве. Смекнув, какие выгоды сулит увлечение публики детективами, оборотистые издатели час от часу умножали героев пёстрых субботних выпусков. Появился «знаменитый сыщик Ник Картер», за ним ещё пяток сыщиков рангом пониже, потом даже сыщик в юбке Этель Кинг. Потом, повернув на сто восемьдесят градусов, героем сделали не сыщика, а преступника, и вот на аляповатых, пёстрых обложках появился одетый во фрак элегантный «вор-джентльмен» лорд Листер.
Но и вор скоро надоел так же, как и сыщики. Тогда принялись за исторических бандитов и даже палачей. Рядом с Пинкертоном и лордом Листером в газетных киосках появились выпуски с описанием сомнительных подвигов знаменитого французского разбойника Картуша и немецкого — Лейхтвейса. Вскоре к ним присоединился «Палач города Берлина» л многие другие, им же несть числа.
Эта эпидемия типографской «чёрной оспы» длилась года два и потушена была первой мировой войной, начавшейся в августе тысяча девятьсот четырнадцатого года. Как во время всякой эпидемии, были жертвы. Я не значился в их числе. Я болел сравнительно легко. Меня спасли хорошие книги, которые были всегда, даже в самые чёрные времена.
Впрочем, и плохие книги не вовсе бесполезны. Древние римляне говорили: «Нет такой худой книги, которая бы к чему-нибудь не годилась».
Высочайше ценил книги Пушкин, за несколько минут до смерти обратившийся к книжным полкам со словами: «Прощайте, друзья». Он считал, что «изобретение книгопечатания — своего рода артиллерия». Ту же мысль о силе воздействия книги на человека выразил Джон Рид, сказавший однажды, что «артиллерийский снаряд, раскат грома и океанский прибой не обладают мощью книги».
Он же, после своей знаменитой книги «Десять дней, которые потрясли мир», работая над новой книгой о России и будучи до чрезвычайности увлечён её материалом, восклицал: «Это необыкновенно, это удивительно! Достанет ли у меня ума, чтобы всё это осмыслить? Хватит ли сердца, чтобы прочувствовать? Найду ли я слова, чтобы это выразить? Я должен об этом писать, я буду об этом писать! И если я окажусь в каторжной тюрьме и в руках у меня не будет ничего, кроме железного гвоздя, этим гвоздём я нацарапаю свою книгу о России на стенах тюремной камеры!»
Какая сила чувств, какой эмоциональный заряд, какая железная воля к свершению! Поистине это мощней и артиллерийского снаряда, и раскатов грома, и океанского прибоя.
Недавно, знакомясь с монографией, посвящённой Клоду Моне, я особо задержался на трёх его картинах: «Белые кувшинки», «Бассейн в Живерни» и «Нимфеи». Одну из этих картин («Нимфеи») я видел в Московском музее изобразительных искусств; две другие — в репродукциях.
Названия картин различны, но тема у всех одна и та же. На каждой из них почти всё полотно занимают плавающие на воде крупные белые цветы и овальные плоские листья. Цветы эти зовут и кувшинками, и водяными лилиями, и нимфеями, и ненюфарами, и, наконец, белыми лилиями. Я издавна звал их белыми лилиями; так буду звать и нынче.
Картины Моне, о которых я говорил, написаны в разное время. Первую от третьей отделяют два десятилетия. В этот временной промежуток укладывается ещё одиннадцать картин, изображающих всё те же белые лилии. Две из них находятся в частных собраниях. Для двенадцати других в Париже построен особый павильон. Почему так много картин на одну и ту же тему? Почему на протяжении большей части жизни художника так упорны возвраты к ней? Я думаю, это объясняется сложностью художнической жизни автора.
Всякий художник живёт одновременно и в обыденном, и в фантастическом, им самим созданном, мирах. Жизнь его обязательно обычна, ибо он земной человек и обязан быть земным человеком, — это питает подлинными соками его искусство. Но в такой же степени жизнь художника и необычна. И она должна быть необычной и питаться необычным, потому что искусство начинается с волшебства, с нарушения нормы жизненного, обычного, с привнесения в жизненный факт, в жизненную картину своего особого взгляда, своего особого необычного ракурса при изображении сущего.
Необычно-обычная жизнь художника сложна и многопланова. Художник открывает для себя какую-то область приложения художнических усилий и некоторое время пребывает в этой рабочей области, в этих определившихся пристрастиях, в этой теме.
Потом наступает (иногда очень постепенно и неприметно, иногда резко и отчётливо) черёд других пристрастий, время других тем.
А потом, случается, художник вдруг возвращается к прежней теме. Она не была, оказывается, исчерпана, она ещё живёт в нём, она ещё требует его новых усилий. И художник снова пишет то же, что писал раньше, но теперь вглядываясь в это прежнее пытливей, вживаясь в него глубже и открывая в нём новое и доселе не увиденное.
Потом тема эта снова может быть оставлена художником, а за этим может последовать новый возврат к ней.
Так художник кисти, резца, слова постоянно живёт в кругу своих излюбленных образов, тем, красок, героев, которые идут с ним о бок через всю жизнь. По этим спутникам жизни художника, по этим пристрастиям его, по звукам, словам, краскам, свойственным ему одному и никому другому в мире, мы узнаём художника среди других художников, узнаём всегда и всюду. Шопена невозможно спутать с Моцартом, а Рубенса с Ван-Дейком.
Но вернёмся к белым лилиям, к которым я с самых юных лет питал особое пристрастие. Их первозданно чистые, звездчатые чашечки на тихих, неподвижных водах болотцев, затонов, озёрец казались сказочно-колдовскими.
С этими водяными колдуньями многое связано в памяти моей. Кое-что и написано о них. Прежде другого написался рассказ «Белая лилия». Это было в сорок шестом году. Журнал «Костёр» объявил в начале года конкурсе на рассказ для детей. Мне предложили участвовать в этом конкурсе.
Я недавно вернулся с войны. Война — дело скверное и грязное. Очень устала душа от неё. И когда предложили мне писать рассказ для детей, так захотелось написать что-нибудь светлое.
Но сердце, ум и память были ещё заполнены только что закончившейся войной, и пока ни о чём другом невозможно мне было думать. Стал ворошить недавнее прошлое, разыскивая в нём нужное к случаю, и остановился вот на чём.
Поздней осенью сорок третьего года прямо с госпитальной койки попал я на короткое время в военный санаторий под Свердловском. Санаторий помещался в Верх-Нейвинском, на берегу Большого пруда. Этот огромный пруд, в одиннадцать километров длиной и три шириной, был частью давно заброшенной системы прудов, плотин, водосбросов, вертевшей старинные водяные колёса на уральских заводах в те далёкие времена, когда о паровых машинах ещё и слуху не было.