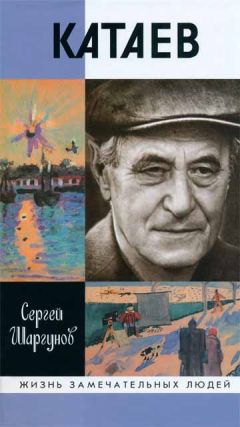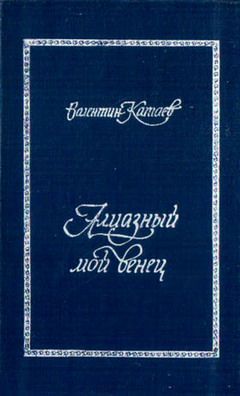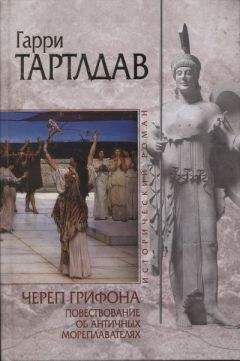Олеша вспоминал о Толстом: «Он первых посетил именно нас… Я помню, он стоит в узенькой комнате Катаева в Мыльниковом переулке, грузный, чем-то смешащий нас… Вероятно, подвыпивший, получает информацию, неправильно ее истолковывает, подлизывается слегка к нам…»
Возвращение Толстого (в августе он вернулся насовсем) и все дальнейшее пребывание на родине часто толкуют как проявление сплошного конформизма. Считается, что привыкший жить в свое удовольствие, он приехал обратно за богатством и комфортом и превратился едва ли не в эталон циника. Он стремился жить хорошо, это правда, но его хождение по мукам идейных противоречий почти не обсуждается или выдается за что-то несерьезное. Литератор-эмигрант Федор Степун признавался: «Мне лично в “предательском”, как писала эмигрантская пресса, отъезде Толстого чувствовалась не только своеобразная логика, но и некая сверхсубъективная правда» и добавлял, что Толстой, несмотря на большой риск возвращения в Россию, «бежал в нее, как зверь в свою берлогу». Родная земля держит…
Именно тогда, в начале 1920-х, по мнению историка Михаила Агурского, тщательно изучавшего «сменовеховцев», сформировалась и окрепла выстраданная (пускай для кого-то идеалистичная) позиция Толстого, которой он был верен до конца. «Толстой призывает делать все, чтобы помочь революции пойти в сторону обогащения русской жизни, в сторону извлечения из революции всего доброго, справедливого, в сторону уничтожения всего злого и несправедливого, принесенного той же революцией и, наконец, в сторону укрепления великодержавности». Да, подчас У Толстого наивность идей мешалась с барственностью манер, но отрицать искренность его упований тоже неверно. Идеи Толстого были выражены в романе «Аэлита» (1923), где противопоставлялись дух и пресыщение, простолюдины и элитарии, Земля — «красная» Россия и Марс — Запад с пауками в подземельях, ждущими своего часа, чтобы покорить деградирующую цивилизацию.
Еще в 1922-м Толстой писал белоэмигранту Николаю Чайковскому, возражая против упреков в предательстве: «Задача газеты “Накануне” не есть, — как Вы пишете, — борьба с русской эмиграцией, но есть борьба за русскую государственность… восстановление в разоренной России хозяйственной жизни и утверждение великодержавности России. В существующем ныне большевистском правительстве газета “Накануне” видит ту реальную, — единственную в реальном плане, — власть, которая одна сейчас защищает русские границы от покушения на них соседей, поддерживает единство русского государства и на Генуэзской конференции одна выступает в защиту России от возможного порабощения и разграбления ее иными странами».
После возвращения Толстой осваивался, пытаясь опереться на «родственные души» — и уже не столько организационно, для каких-то дел, сколько для себя самого, психологически. «Что бы я там (в “Окаянных днях”) ни писал, однако я все же не предлагал загонять большевикам иголки под ногти, как рекомендовал в ту пору в одной из своих статеек Алеша Толстой», — бросил ему вслед Бунин. Но при исключении Толстого из белоэмигрантского Союза русских литераторов и журналистов Бунин воздержался (Куприн, который вернется в 1937-м, единственный был против!), ну а спустя почти 20 лет перед самой войной Толстой направил в Кремль такие слова:
«Дорогой Иосиф Виссарионович,
обращаюсь к Вам с важным вопросом, волнующим многих советских писателей, — мог бы я ответить Бунину на его открытку, подав ему надежду на то, что возможно его возвращение на родину?»
27 августа 1923 года Булгаков записал в дневнике: «Только что вернулся с лекции “сменовеховцев”… Сидел рядом с Катаевым. Толстой, говоря о литературе, упомянул в числе современных писателей меня и Катаева».
«Должно отметить большой успех Толстого, выступившего с докладом и повестью в политехническом музее», — сообщал Оливер Твист (то есть Катаев) в «Накануне».
«Алексей Толстой был крестным первой книги Катаева, — писал Миндлин. — Из всех московских “накануневцев” Катаев более чем кто-либо другой сблизился с Алексеем Толстым». Вспоминая первый визит графа в московскую редакцию «Накануне», Миндлин спрашивал себя: «Кто был тогда с нами?» — и первым называл Катаева — «Толстой вообще не отпускал Катаева от себя», затем Булгакова и литератора Михаила Левидова.
Берлинское «Книгоиздательство писателей» выделило Толстому деньги на сборник московских авторов. Но вместо этого он решил издать одного Катаева. У того не хватало прозы на десять листов — разве что на восемь. Но Толстой только фыркнул: наберете. Катаев взял деньги.
«Недель через шесть я встретил его на Тверской сияющего:
— Миндлин! Смотрите! — Он вытащил из-за пазухи берлинское издание книги. — Первая книга! Теперь будет и вторая, и третья. Самое главное — выпустить первую!»
Книга, выпущенная в Берлине, называлась, как и включенный в нее рассказ, «Сэр Генри и черт».
В связи с этим названием Миндлин вспоминал о писателе О. Генри, чуть было не рассорившем его с Катаевым. В то время влияние сюжетной (с неожиданными развязками) прозы этого американского писателя было велико — особенно на Катаева. Как-то вечером шагая с приятелями, Катаев, хвастая освоенными им приемами литературной техники, воскликнул:
— Режусь на О. Генри, ребята!
Вскоре Миндлин написал статью в «Накануне», где критиковал молодых литераторов за поверхностное увлечение О. Генри и привел катаевскую фразу, не уточняя, правда, кто ее выкрикнул. Тот сильно рассердился и, придя в редакцию «Литературной газеты», возбужденно скандалил с Миндлиным, обещая вообще перестать с ним разговаривать, потому что тот не имел права разглашать сказанное на улице. «Да ведь я не назвал вашу фамилию, Катаев!» — успокаивал автор и так объяснил для себя это возмущение: Катаеву не нравится, что свидетели реплики узн&от его в персонаже статьи.
Но ведь можно предположить другие причины истерики. В том для кого-то еще безоблачном начале 1920-х Катаев, уже побывавший «где надо», слишком хорошо усвоил, что такое письменно (да еще и публично) зафиксированные слова из частного разговора, потому и пригрозил — стеной молчания. Мало ли чего еще могли натрепать… Он ноздрями и шкурой зверя-подранка почуял эту тошнотворную угрозу — донос! — и прибежал, зарычал: заткнись, не смей!
2 сентября Булгаков записал в дневнике: «Сегодня я с Катаевым ездил на дачу к Алексею Толстому (Иваньково). Он сегодня был очень мил. Единственно, что плохо, это плохо исправимая манера его и жены богемно общаться с молодыми писателями. Все, впрочем, искупает его действительно большой талант. Когда мы с Катаевым уходили, он проводил нас до плотины. Половина луны была на небе, вечер звездный, тишина. Толстой говорил о том, что надо основать неореальную школу. Он стал даже немного теплым: