Он был красивый — и этому не мешало то, что он косил на один глаз и был почти глухой. При такой глубокой влюбленности в реальную жизнь он неизменно оставался не только высоко поэтичным, но и откровенно резким в своих суждениях. Так, когда в середине тридцатых годов я предложил ему написать о нем статью, он сказал: «Нет, мне не нравится, как вы пишете, мне нравится, как пишет Пунин». Я очень кротко отнесся к такому суждению — я бесконечно почитал Николая Николаевича Пунина и на Бруни не обиделся. Но Пунин так и не собрался больше написать о Бруни (он писал о нем накануне революции, когда Бруни жил, как и Пунин, в Петербурге, а я написал о нем после смерти Бруни в 1949 году, долго спустя).
Особенностью Бруни было то, что он не придавал особенного значения своему художественному творчеству. Меня даже поражала его беззаботность по отношению к собственным созданиям. Когда я в 1933 году пришел к нему, чтобы посмотреть его акварели и пополнить их подбор для большой выставки книжной и станковой графики в Музее изобразительных искусств, он вытащил из‑под дивана обшарпанный чемодан, и в нем оказались небрежно запихнутые акварели, одна лучше другой, со смятыми и загнутыми вверх краями, причем эти края были растрепаны и оборваны, словно их жевала какая‑то корова. Я спросил: «Кто же так старался съесть ваши акварели — мыши или кролики?» Он ответил: «Нет, собака». Я все‑таки взял несколько таких объеденных акварелей, и реставраторша Гравюрного кабинета В. Н. Крылова привела их, насколько было можно, в порядок. Среди них была прелестная акварель. Сделанная на серой бумаге «верже» черной краской — тростники, окружающие небольшой овальный пруд, и посредине этого пруда сделанная красной краской маленькая лягушка. В. Н.Крылова отыскала точно такую же серую бумагу «верже» и надставила утраченную часть изображения. И я отдал Бруни дорисовать утраченное, что он и сделал. Эта «Лягушка» была одним из лучших украшений его двух стендов и с выставки приобретена Третьяковской галереей.
Мне он подарил в середине тридцатых годов прекрасную большую акварель «Море, прибой в Батуми», а когда он умер, я, чтобы помочь совсем небогатой жене Бруни Нине Константиновне, купил у нее прекрасную большую марину «Черное море у Зеленого мыса» и карандашный рисунок «Дикобраз», чуть — чуть подцвеченный цветным карандашом. В то время я зарабатывал много и мог позволить себе такую роскошь (таких случаев было всего три за всю мою жизнь).
В 1932 году я познакомился и подружился на всю жизнь с прелестным и удивительным существом, необыкновенным и на редкость обаятельным художником — Владимиром Евграфовичем Татлиным. Он пришел в Музей изобразительных искусств со своим только что законченным летательным аппаратом, названным им «Летатлин». Никто, кроме меня, в Музее изобразительных искусств современным советским искусством не занимался, и его направили ко мне. И я устроил первую выставку этого замечательного произведения искусства и техники. «Летатлин» был обтянут светлой желтовато — серой замшей и выглядел очень уютно. Я повесил его в итальянском дворике между «Давидом» Микеланджело и «Гаттамелатой» Донателло, и татлинский аппарат необычайно естественно и достойно вписался в столь величественное окружение, словно демонстрируя, что в безоглядной смелости, стремительной самобытности, неумирающей новизне двадцатый век может соревноваться с высшими вершинами Возрождения. Я отнесся к «Летатлину» с глубоким уважением и оценил его прежде всего с эстетической и образной точки зрения, но, видимо, нужно с уважением относиться к нему с чисто технической стороны. Когда я в послевоенные годы как‑то недолго жил в Суханове вместе с художником Пименовым и архитектором Буровым, в нашем разговоре о «Летатлине» Буров сказал, что он очень мил и хорош, но что у него есть существенный изъян — он не летает. Но оказалось, что Буров ошибался: на «Летатлине» летал сам знаменитый летчик Громов. И этот летательный аппарат занимает почетное место в Московском музее авиации.
Я знал другие работы Татлина с давних пор — я видел его обобщенную, но в то же время конкретно реальную живопись еще в начале двадцатых годов — в Музее живописной культуры на Рождественке, а его замечательный памятник Третьему Интернационалу знал и по очень тонкой, но большого формата брошюре Н. Н. Пунина, которая есть в моей библиотеке. Новое творение Татлина показало необычайную широту, причудливость и экстравагантность его художественных исканий, которые вполне отвечали его личному характеру.
Через пятьдесят лет «Летатлин» снова появился в Музее изобразительных искусств имени A. C.Пушкина на том же месте в Итальянском дворике в составе огромной выставки «Москва — Париж», только на этот раз без замшевой оболочки.
У Татлина была очень несуразная внешность: очень высокий, некрасивый, с огромными руками и ногами и при этом с почти детской простосердечностью и наивностью душевного строя. Диковинный образ этого фантазера и мечтателя замечательно передала в своей скульптуре сидящего Татлина Сарра Дмитриевна Лебедева.
Из дальнейших (не частых) моих встреч с Татлиным особенно запомнились два эпизода. Один был связан с поездкой вместе с Самуилом Яковлевичем Маршаком к Юрию Ивановичу Пименову, чтобы посмотреть новый вариант иллюстраций к новому изданию книжки Маршака «Хороший день» (предвоенные иллюстрации Пименова в годы войны растерялись, а Маршак просил Детгиз пригласить меня быть художественным редактором новых рисунков Пименова). Мы приехали к Пименову, но он, вместо того, чтобы показывать рисунки, сказал: пойдемте наверх к Татлину — он починил свою бандуру и будет на ней играть. Мы пошли, и я оказался зрителем и слушателем удивительного представления — Татлин играл на им же сделанной бандуре, и они с Маршаком дуэтом под эту бандуру пели старые украинские песни! Такой неожиданный и прекрасный концерт услышишь раз в жизни!
Другой эпизод был грустный. В послевоенные годы я несколько лет работал в Академии художеств — в ее институте теории и истории изобразительных искусств; однажды я вышел из рабочей комнаты в коридор и увидел Татлина, сидящего у двери, ведущей в президиум Академии. Я бросился к нему, он радостно меня приветствовал. Я спросил, чего он здесь ждет, он ответил: «Хочу попросить, чтобы мне помогли получить пенсию». Бедному Татлину в его простосердечии не могло прийти в голову, что самое неподходящее место на свете, чтобы просить помочь получить пенсию, это тогдашний насквозь реакционный президиум Академии художеств СССР, для которого даже Сергей Герасимов, или Дейнека, или Пластов — зловредные формалисты! А к таким людям, как Татлин, или Малевич, или Кандинский, в этом президиуме относились со свирепой враждебностью и злобой. Не знаю, хорошо ли я сделал, что не решился сказать об этом Татлину — думаю, что его просто не пустили на порог этого высокого святилища сталинского социалистического реализма. Не знаю, получил ли когда‑нибудь Татлин желанную пенсию.
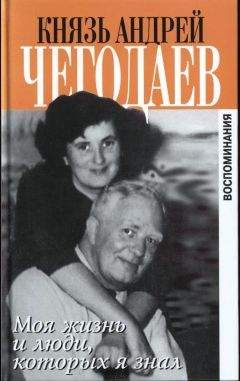
![Юлия Кулинченко - От топота копыт [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)


