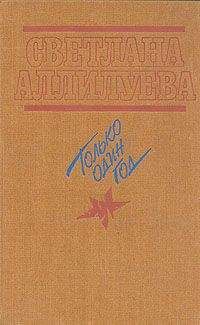Взглянув однажды на мою ладонь, он сказал: «А у вас будет огромная перемена в жизни. Вторая половина вашей жизни будет несравненно интереснее и значительнее, чем первая». Я смеялась тогда, а теперь часто вспоминаю его слова…
Алеша был хорошим пианистом. Наслаждение было слушать «романтическую прелюдию», которую он посвятил матери. Он писал романсы на ее стихи, его лучшие вещи были камерные. У Алеши и Сани всегда было полно народа в доме – певцы, музыканты, художники. Это был открытый, дружелюбный дом, однако, я знала, что на утро у них не будет к завтраку ничего, кроме кофе и чечевичной каши. Но кого удивишь в СССР безденежьем? Все так живут, – один костюм, пока не сносится. Телефон у них часто выключали за неуплату, но когда деньги были, они не могли отказать себе в долгих телефонных разговорах с друзьями в Москве.
В квартире у Алеши старая русская мебель, голландский шкаф 18-го века, хорошие картины – имущество матери. Но все это в таком состоянии, что страшно было сесть на стул. Подруги много раз советовали Сане продать «старую рухлядь» антиквару – по крайней мере будут деньги. Но жаль было расставаться с кроватью бабушки, с ее креслом, трюмо. С каждой вещью была связана дорогая сердцу память, – и все оставалось на своих местах. В кухне продолжали угощать чечевицей с луком, сидя на диванчике с золочеными ножками.
Я любила приезжать к ним в Ленинград. Они водили меня в Эрмитаж, в студию к художнику-модернисту, знакомили с друзьями. И хотя у меня были свои дальние родственники в Ленинграде, я предпочитала приезжать к Алеше или его знакомым, это было приятнее и интереснее.
Алеша и Саня приезжали к нам в Москву. Тогда у нас сразу в квартире становилось тесно, а мои дети смотрели Алеше в рот, потому что он так занимательно рассказывал. Но его приезды всегда были связаны с неприятностями: он пытался издать что-нибудь из своей музыки, и обычно это не удавалось. Алеша мечтал побывать в Париже, там где многие годы жили его родители, мечтал встретиться с большим музыкальным миром. Когда Стравинский посетил СССР, его пригласили в гости к Алеше. Тогда еще жива была Елена Васильевна и ленинградский союз композиторов решил, что в этом доме «не посрамят честь советской музыки» и потому рекомендовали молодого композитора вниманию Стравинского. Но самому Алеше только однажды удалось поехать в Болгарию, а Парижа ему пока не видать…
* * *
В Москве у меня было много друзей, так или иначе связанных с литературным миром – поэты, драматурги, литературоведы и филологи, журналисты, переводчики, редакторы, кинокритики и киносценаристы. Имена этих людей малоизвестны, – я никогда не стремилась к знаменитостям. Но это были профессиональные знатоки своего дела, строгие ценители.
Некоторые из них работали в Институте Мировой Литературы, вместе со мной; другие принадлежали к Союзу Писателей, куда мы все часто ходили на собрания и дискуссии. Многие жили летом в деревне Жуковка, под Москвой, совсем рядом с нашей дачей, и мы встречались там.
В Москве – одна писательская организация, издательств мало, поэтому любая новость, новые стихи, острое словцо в дискуссии сразу становились всем известны – так же как любое новое установление партии об искусстве, или даже лишь сплетня о возможности такового. Москва – как большая деревня, любой слух распространяется моментально. А перемен в литературе и искусстве было так много за последние десять лет.
Разве можно забыть прогулки по обрыву над рекой в нашей «литературной деревне» Жуковке?
Нас было пятеро: знаток немецкой литературы, специалист по американской, два переводчика испанской. Здесь же жил редактор единственного в Москве журнала кинокритики. Приезжал в гости поэт, переводивший с польского и с чешского. Его друг переводил с эстонского. Это была не «богема». Всех этих людей вряд ли можно было назвать даже «левыми» в их литературных пристрастиях. Но они были безусловно левыми там, где дело касалось партийного контроля. Слишком много этого контроля они испытали на себе, и теперь жили надеждами, что наконец настанет – не свобода печати, о, нет! – а хотя бы возможность публикации романов Солженицына и Пастернака, стихов Анны Ахматовой, настанет возможность писать правду о жизни людей в наше время, в нашей стране…
Они испытали многое. Знаток немецкой литературы отсидел срок в лагерях, где познакомился с Солженицыным. Поэт начал печататься, скрывая свою еврейскую фамилию под русским псевдонимом – иначе его бы не издавали. То, что он ушел на фронт студентом и воевал четыре года за Россию, очевидно, не убеждало издателей в его патриотизме.
Специалист по американской литературе знала, что невозможно протолкнуть в издательство переводы современных американских писателей.
Переводчики с испанского убедились, что им не видать не только Испании, но и латинской Америки. А Куба, куда им разрешалось ехать, их не очаровала.
Тем не менее, все они не были настроены враждебно к советской власти или к партии: они только хотели бы улучшить эту власть и эту партию в соответствии со своими идеальными, возвышенными представлениями о том, какой ей следует быть. И они верили и надеялись, что это постепенно произойдет, и каждый новый знак «потепления» укреплял их веру. Но партия с поразительным упорством разрушала те иллюзии, которые сама же сеяла.
Если публицист Илья Эренбург, или поэт Евтушенко, или драматург А. Штейн, или кинорежиссеры Швейцер, Габай и Тарковский, прозаики Виктор Некрасов и А. Яшин, позволяли себе сказать немного правды о жизни в СССР и за рубежом – к чему партия их же «призывала» – как следовал окрик, подзатыльник, а то и зуботычина «сверху». Едва лишь Константин Паустовский посмел обличить губительный советский бюрократизм в яркой речи в Союзе Писателей, а В. Дудинцев посмел написать на эту тему роман, едва лишь К. Симонов вздумал критиковать постановления партии о литературе и искусстве, – как каждый из них получил строгий пинок.
Когда молодежь и сотни москвичей приветствовали выставку скульптора Эрьзя, вернувшегося из Америки, пинок получил сам Эрьзя. Как только молодые художники поверили всерьез, что настала пора творить в различных формах, что пресловутый «социалистический реализм» не обязывает их быть похожими один на другого и на выставках появились произведения Фалька и Неизвестного, – их немедленно окрикнули «сверху». Совсем как крепостных актеров, плясавших некогда для барина в его собственном театре…
Либеральный премьер Никита Хрущев, обнадеживший было художественную интеллигенцию провозглашением десталинизации во всех областях жизни, теперь вступил в единоборство с поэтами Маргаритой Алигер и Андреем Вознесенским, со скульптором Неизвестным, с кинорежиссером Михаилом Роммом на так называемых «приемах» и «встречах» с деятелями искусства.