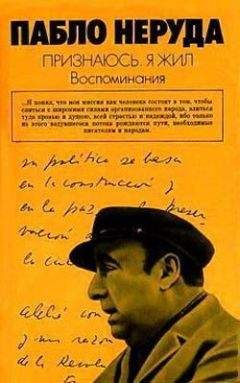Воплотить это все Диего намеревался не с помощью символов и аллегорий, а в образах самых что ни на есть доподлинных и обыкновенных людей. Пусть, наконец, займут на стенах принадлежащее им по праву место шахтеры и батраки, повстанцы и солдадеры, инженеры и сельские учительницы — словом, такие же точно сыновья и дочери Мексики, как и те, что будут смотреть на них. Пусть его роспись станет громадным зеркалом, в котором увидит себя мексиканский народ!
И не просто зеркалом… Мастера Возрождения умели монументализировать повседневную жизнь, приобщая ее к мифам — античным и христианским; светоносный ореол бессмертных легенд позволял им одухотворять и возвышать вполне реальных пастухов, крестьянок и горожан. А Диего мечтал достигнуть сходных результатов, вдохновляясь уже не мифами, а великими освободительными идеями, выстраданными человечеством в многовековой борьбе, мечтал, не прикрашивая своих героев, озарить их победоносным светом грядущего. «Цель моя заключается в том, — скажет он вскоре, — чтобы как можно вернее выразить самую суть моей страны. Я хочу, чтобы мои росписи отражали общественную жизнь Мексики такою, какою я ее вижу, и через сегодняшнюю действительность показывали народным массам возможности будущего. Моя живопись должна как бы сконденсировать в себе стремления борющихся масс, предложить людям некий синтез их собственных чаяний и, таким образом, способствовать их социальному воспитанию…»
Впрочем, об этом Диего не стал распространяться перед министром, который и без того был ошарашен его напором. Художник вел себя так, словно заказ на роспись у него в кармане. Уж не договорился ли он опять с Обрегоном?.. И всю работу он надеется выполнить в одиночку? Ах, с помощниками!.. Но ведь задуманный им портрет Мексики должен давать представление и о географическом разнообразии страны — откуда же взять столько предварительных зарисовок?
Диего деловито кивнул: замечание основательное, оно показывает, как глубоко понял дон Хосе его замысел. Перед началом работы в новом здании необходимо совершить большую поездку по стране — за счет министерства, естественно, — с тем чтобы обеспечить роспись достаточным количеством этюдов и набросков, сделанных в различных штатах. Он уже наметил маршрут — не угодно ли ознакомиться?
А что же будет с росписями в Подготовительной школе? И на этот вопрос у Диего готов был ответ. К началу будущего года он завершит первую стену в аудитории и мог бы перейти к следующим… Но, признаться, его заботит судьба молодых монументалистов, вполне созревших для самостоятельной деятельности. Да и не только молодых — такие мастера, как доктор Атль или Хосе Клементе Ороско, давно хотят испробовать свои силы в новом жанре и, по-видимому, обижены на Диего, который невольно обошел их. Что ж, он согласен уступить им Препараторию и всецело отдаться работе в здании министерства….
Растерянный Васконселос пообещал внимательнейшим образом изучить его предложение и поспешил закончить разговор. На большее Диего пока и не претендовал. Предоставив плоду дозревать, он в то же время пустил в ход все связи — в частности, побывал у Альберто Пани, принес ему в подарок несколько картин и мимоходом поделился своими планами. Он даже пошел на рискованный шаг, отрезавший ему путь к отступлению, — официально заявил сеньору Ломбардо Толедано, что отказывается от дальнейших росписей в Подготовительной школе и просит предоставить стены другим художникам. Пусть посмеет теперь Васконселос усомниться в серьезности его намерений!
…Действительно, еще до конца сентября приступают к самостоятельным росписям Жан Шарлот и Фермин Ревуэльтас. Получает заказ и Сикейрос — он сам выбирает себе куполообразный свод лестничной клетки. Однако Давид проводит в Препаратории не больше двух-трех часов в день — жажда действия, утолить которую полностью не может и живопись, гонит его на улицу, ведет в рабочие клубы, в помещения профсоюзных организаций, заставляет ввязываться в политические дискуссии.
Когда вечерами в тесной квартирке Диего собираются художники, Давид неизменно оказывается в центре внимания. Не без ревности наблюдает хозяин, как жадно его ученики слушают этого темпераментного оратора, который сумел увлечь даже невозмутимейшего Хавьера Герреро. И то сказать, не прошло и трех недель со дня возвращения Сикейроса в Мексику, а в том, что здесь творится, он уже разбирается едва ли не лучше всех остальных. Обстоятельно и доходчиво анализируя внутриполитическую обстановку в стране, он предупреждает, что правительство Обрегона неминуемо свернет вправо, пойдет на уступки реакционерам, если только борьба трудящихся масс не воспрепятствует этому.
Подобная ситуация возлагает особенную ответственность на рабочее движение. Нет, Сикейрос не разделяет скептицизма друзей, считающих, что мексиканский пролетариат, как покорное стадо, идет за продажными лидерами вроде Моронеса. Положение изменилось с тех пор, как создана Всеобщая конфедерация трудящихся. Недавние события — стачка трамвайщиков, демонстрация железнодорожников, движение арендаторов — показывают, что коммунистическая партия уже оказывает влияние на деятельность профсоюзов, ее лозунги приобретают популярность. Конечно, коммунисты в Мексике пока еще слабы и малочисленны, но что из того? Лет двадцать назад русские большевики тоже были незначительной горсточкой, а сейчас они руководят стопятидесятимиллионной страной!
Довольно миролюбивое замечание Диего о том, что Давиду все же следовало бы побольше времени уделять своей основной работе, выводит Сикейроса из равновесия. Посвятить себя живописи — но во имя чего? Чтобы те, кто нами правят, могли похваляться успехами искусства, расцветающего под их покровительством? Или Диего считает, что аллегорическая композиция, которой украсил он стену в Подготовительной школе, способна при всех ее неоспоримых достоинствах чем-либо помочь народу, стремящемуся довести революцию до конца?
— Но кто же позволит… — раздумчиво начинает Герреро.
— Кто позволит? — перебивает Сикейрос. — Понятно, не продолжай!.. Но раз так, поневоле задумаешься: а возможно ли вообще создавать революционное искусство — тем более монументальное! — в стране, где художник всецело зависит от государства, не заинтересованного в дальнейшем развитии революции? И если невозможно, то не следует ли отсюда, что требуется сначала завоевать власть, превратить общественные здания в народную собственность, а тогда уж и расписывать их? Ради этого можно и пожертвовать искусством на какое-то время!
Диего набрасывается на него с не меньшей запальчивостью. Он категорически отвергает нелепое противопоставление: либо заниматься искусством, либо участвовать в революционной борьбе. Искусство — и прежде всего монументальное! — может и должно уже теперь служить революции; художник обязан сражаться на стороне народа именно тем оружием, которым наделила его судьба. Сражаться по всем правилам военной науки — если нужно, маневрировать, обманывать противника, применять маскировку, использовать малейшие разногласия в правящей верхушке, — но не складывать оружия, что было бы равносильно дезертирству… На первых порах неизбежны ошибки и поражения — сам Диего готов признать, что несколько просчитался в Препаратории. Ну что же, урок окажется небесполезным и для остальных. А все-таки мексиканский народ в ближайшее время увидит по-настоящему революционные росписи, и каждая такая роспись будет стоить выигранного сражения!