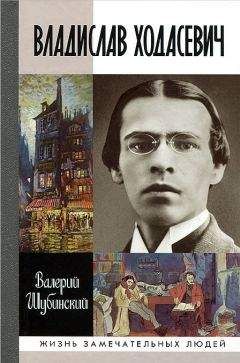На этом мои воспоминания кончаются. О дальнейшем я знаю лишь то, что известно всем. Дипломатические сношения Горького с советским правительством восстановились в то же лето: Горького посетил советский полпред в Италии Керженцев, затем Горький принял у себя экскурсантов-ударников — и возобновил сотрудничество в советских изданиях. В 1926 г. он написал знаменитое письмо о смерти Дзержинского, особенно подчеркнув, что вместе с ним скорбит и Екатерина Павловна. В 1928 г., когда совершилось окончательное падение Зиновьева, оказалась возможной поездка в Москву, куда через год пришлось и вовсе переселиться. Переселение сопровождалось сближением с Ягодой, поездкой на Соловки и на Беломорский канал — и т. д. Все это уже выходит за пределы моей задачи. Но, не вдаваясь в область исследования и оставаясь мемуаристом, я все же считаю себя вправе прибавить несколько слов, выражающих мое личное мнение о внутренних причинах горьковских колебаний в отношении к советскому правительству.
Каковы бы ни были поводы горьковского отъезда из России в 1921 г., основная причина была все-таки та же, что и у многих из нас. Он себе представлял революцию свободонесущей и гуманной. Большевики придали ей вовсе иные черты. Осознав свое бессилие что-либо изменить в этом, он уехал и был близок к тому, чтобы порвать с советским правительством вовсе, — но лишь так близок, как бывает близок к самоубийству человек, который держит револьвер у виска, зная все-таки, что никогда не выстрелит. Несомненно, что Мара, Е. П. Пешкова и другие лица, о которых я здесь для краткости не упоминал, немало содействовали примирению. Но оно совершилось бы и без того. Причины лежали в самом Горьком. Он был одним из самых упрямых людей, которых я знал, но и одним из наименее стойких. Великий поклонник мечты и возвышающего обмана, которых по примитивности своего мышления он никогда не умел отличать от самой обыкновенной, часто вульгарной лжи, он некогда усвоил себе свой собственный «идеальный», отчасти подлинный, отчасти воображаемый образ певца революции и пролетариата. И хотя сама революция оказалась не такой, какою он ее создал своим воображением, — мысль о возможной утрате этого образа, о «порче биографии», была ему нестерпима. Деньги, автомобили, дома— все это было нужно его окружающим. Ему самому было нужно другое. Он в конце концов продался, — но не за деньги, а за то, чтобы для себя и для других сохранить главную иллюзию своей жизни. Упрямясь и бунтуя, он знал, что не выдержит и бросится в СССР, потому что, какова бы ни была тамошняя революция — она одна могла ему обеспечить славу великого пролетарского писателя и вождя при жизни, а после смерти — нишу в кремлевской стене для урны с его прахом. В обмен на все это революция потребовала от него, как требует от всех, не честной службы, а рабства и лести. Он стал рабом и льстецом. Его поставили в такое положение, что из писателя и друга писателей он превратился в надсмотрщика за ними. Он и на это пошел. Можно бы долго перечислять, на что еще он пошел. Коротко сказать — он превратился в полную противоположность того возвышенного образа, ради сохранения которого помирился с советской властью. Сознавал ли он весь трагизм этого — не решаюсь сказать. Вероятно — и да, и нет, и вероятно — поскольку сознавал, старался скрыть это от себя и от других при помощи новых иллюзий, новых возвышающих обманов, которые он так любил и которые в конце концов его погубили.
1939 г.
В числе моих воспоминаний, связанных с Горьким, есть довольно забавные. Вот — одно из них, которое мне приходится озаглавить почти по-тургеневски: «Завтрак в Сорренто».
Действие происходит в 1925 году, но я начну с несколько более ранней поры.
Писателя X. (не русского, иностранного) встречал я у Горького еще в Германии, в 1922–1923 гг. Написал он всего две-три жиденьких книжечки каких-то заметок, отрывков о том, о сем. Однако был ужасно передовой, увлекался дадаизмом, сюрреализмом, коммунизмом, когда-то знаком был с Марселем Прустом, а главное — был чрезвычайно богат: имя его значится в числе даже не двухсот, а двух-трех богатейших фамилий. Разумеется, он везде был принят и всех принимал у себя. В его салоне банкиры и представители владетельных домов встречались с советскими писателями.
Порхая с идеи на идею, из салона в салон, любил он залетать и в чужие страны. В одно из таких его путешествий я с ним познакомился. Маленький, щупленький, на тоненьких ножках, с лысинкою, покрытой цыплячьим пухом, говорил он тоненьким голосом — словно мяукал. Было ему лет под сорок, но после обеда огромный лакей, состоявший при нем, уводил его в спальню (словно бы уносил под мышкой), под струей умывальника мылил и мыл ему ручки и мохнатым полотенцем вытирал пальчики. Лакей спал с ним в одной комнате, из которой наутро поклонник Пруста и Ленина рысцою бежал по коридору — пить кофе, болтать о революции. Горький с ним обращался, как старый сенбернар с новорожденным котенком. Казалось, вот-вот возьмет он его зубами за шиворот и отнесет под лестницу к матери. X., однако же, хорохорился: дрыгал ножками и без умолку пищал о самоновейшем. Кому-то из наших дам посвятил он стихотворение в прозе: изображалось, как он, где-то в Сибири в страшную стужу, гуляет с этою дамою по берегу озера, тихие волны которого отражают меланхолическую луну и задумчивых лебедей, а с деревьев сыплется много снега, а ямщик идет сзади, звонит в колокольчик и поет тихую песню о Ленине. Само собой разумеется, что X. рекомендовался величайшим почитателем Горького. Болтовню его, впрочем, никто не слушал. Довольствовались тем, что благодаря своим связям он умел хорошо пристраивать книги Горького в иностранные издательства.
На Пасху 1925 г. английская королева (ныне вдовствующая) должна была приехать в Сорренто. Ожидали по этому поводу большого наплыва туристов. Семейный траур, однако же, удержал королеву в Англии. Соррентинское население приуныло — сезон был сорван. Хозяин прибрежного отеля, в котором для высоких гостей были сняты апартаменты, находился в состоянии, близком к отчаянию. Появление X., конечно, не могло его утешить, но все-таки X. появился и снял ту самую комнату, в которой должна была жить королева. Лакея на сей раз при нем не было, зато был ражий детина, которого он нам отрекомендовал в качестве своего друга. Друг был курчав, черноволос и смугл. Могучие формы выпирали из его одежды, явно снятой с чужого плеча. Из коротких рукавов вылезали огромные волосатые руки. За все время своего пребывания в Сорренто он не произнес ни слова. Глядел исподлобья. X. то и дело поглядывал на него с кокектливой нежностью. По всему было заметно, что они познакомились несколько дней тому назад.