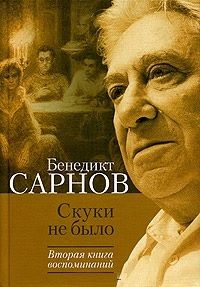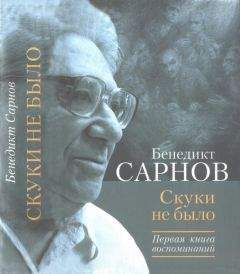— Почему — рядом? Вместе!
Сегодняшний читатель, наверно, даже и не ощутит всей глубины пропасти, лежащей между этими двумя определениями: «рядом» или «вместе» — не всё ли равно?
Но для нас тогда в двух этих, казалось бы, не столь уж различных определениях заключались две разные — и не просто несхожие, а прямо противоположные — исторические концепции. Если угодно, даже — два противостоящих одно другому мировоззрения.
«Рядом» — это значило, что коварный враг, как это уже не раз бывало в истории нашей страны, пробрался в самое сердце партии, сумел втереться в доверие самого ее вождя. И творил свое черное дело. И все плохое, все страшное, что было в нашей жизни, — шло от него. А вождь — как был, так и оставался в ангельски чистых, незапятнанных белых ризах.
«Вместе» — это значило, что обо всех черных делах своего подручного Сталин знал. И не просто знал, а прямо поручал, приказывал ему их творить. Это значило, что Берия был орудием Сталина, послушным исполнителем его воли. Говоря попросту, это значило, что именно он, Сталин, а не какой-то там Берия, и был главным врагом народа.
Хотя к таким откровенным формулировкам я тогда еще был не вполне готов, эта откровенная реплика Эренбурга меня не больно шокировала. Вероятно, до конца в этом себе не признаваясь, я и сам предполагал нечто подобное.
А Лена Зонина, когда я передал ей благодарность Володи и — с его слов — коротко изложил этот его разговор с Ильей Григорьевичем, озабоченно нахмурилась: «Ох, не надо бы ему так откровенничать с каждым…»
Когда я сказал, что Володя не каждый, что я ручаюсь за его порядочность, она ответила, что за порядочность своего подопечного я, может, и могу поручиться, но могу ли с той же уверенностью поручиться, что он эту информацию о своем разговоре с классиком не понесет дальше.
И вообще, добавила она, Илья Григорьевич несет такое чуть ли не в каждом разговоре с совершенно не знакомыми ему людьми, за которых уж и вовсе никто не может поручиться.
В общем, Лена была недовольна своим шефом. А мне это беспечное его поведение, за которое она его журила, как раз понравилось.
Я и до этого часто разговаривал с Леной про ее шефа. И в тех ее рассказах поначалу мне рисовался не очень привлекательный образ.
Вот, например, послал он ее как-то по каким-то своим делам в Гослит. У нее на это задание шефа ушло чуть ли не полдня. «Где вы были?» — раздраженно спросил он, когда к концу своего рабочего дня она наконец появилась. «Как — где? Я ездила в Гослит, вы же знаете», — недоумевая, ответила Лена. И была очень обижена, когда он в ответ, недоверчиво хмыкнув, пожал плечами, словно бы не поверив, что она говорит правду.
— Понимаешь, — жаловалась она мне, — когда ему самому надо по тем же делам съездить в Гослит, он садится в машину. Десять минут — и он уже там. И сразу перед ним распахиваются все двери. Котов (тогдашний директор Гослитиздата) сразу его принимает, в две минуты решает все его дела, и через полчаса он уже дома. Он не понимает, не может понять, что мне, чтобы добраться до Басманной, надо долго мерзнуть на остановке, дожидаясь троллейбуса, а потом часа полтора сидеть в приемной у Котова, ждать, когда наконец тот соизволит меня принять.
Позже — уже в иные годы — нечто похожее, и тоже жалуясь, рассказывала мне об Эренбурге жена Бори Слуцкого Таня.
Таня тогда уже была больна своей неизлечимой болезнью, и ей лучше было жить не в Москве, а где-нибудь за городом. И вот она позвонила мне и спросила, нельзя ли снять какую-нибудь дачку (комнату с террасой) в том дачном поселке, где, как она знает, уже много лет подряд снимаем дачу мы.
— А зачем это вам? — удивился я. — Ведь ты совсем недавно мне говорила, что вы живете на даче Эренбурга.
— Да, — подтвердила Таня. — Живем. Но это нам не по карману.
— То есть как? — еще больше удивился я. — Не хочешь же ты сказать, что Эренбурги сдают вам дачу за деньги?
— Нет, — сказала Таня. — Никаких денег они с нас, конечно, не берут. Но там ведь у них как поставлено. Как только подъезжает Илья Григорьевич с Любовь Михайловной к даче, в доме гаснет свет. Илья Григорьевич говорит Любовь Михайловне: «Дайте им там, сколько они хотят, но чтобы свет был». Любовь Михайловна дает, и свет загорается. В результате этот человек, который там у них отвечает за то, чтобы свет всегда был, и вообще, чтобы все было в порядке, выстроил себе рядом с эренбурговской свою дачу, побогаче, чем у Эренбургов.
Это, как я уже отметил, мне Таня рассказывала уже в иные, более поздние времена. Но именно вот такой образ капризного, избалованного барина возникал и в рассказах Лены Зониной, когда она, бывало, делилась с моим другом Максом, а заодно и со мной, впечатлениями о какой-нибудь очередной причуде «старика», как она его называла.
«Старика» она, однако, любила, и говорила, что работать с ним — легко. Несмотря на вечную свою скептическую, даже какую-то брезгливую усмешку, а также вопреки всем этим своим причудам избалованного, капризного барина, в общении с ней был он покладист, добродушен, снисходителен.
Ну, с Леной-то оставаться добродушным и снисходительным ему было нетрудно. Лена была отличным работником: четким, деловитым, никогда и ничего не забывающим. Не то что Наташа (Наталья Ивановна) Столярова, сменившая Лену на этом посту.
Про нее шеф рассказывал, добродушно посмеиваясь, что однажды, придя на работу, она обратилась к нему с таким вопросом:
— Илья Григорьевич, напомните мне, пожалуйста: о чем вы просили меня сегодня утром вам напомнить?
Но Илья Григорьевич и к ней был снисходителен, терпел и легко прощал чудовищную ее безалаберность, и обычное-то общение с ней делавшую довольно затруднительным, а уж при исполнении ее секретарских обязанностей, я думаю, совсем невыносимую.
Тут, правда, могло играть роль то обстоятельство, что Наташу он знал девочкой: она была подругой его дочери Ирины, они вместе учились в той французской школе, о которой Ирина написала свою первую книжку. Да и последующую Наташину судьбу он тоже, наверно, учитывал: вернувшись из Франции на родину, она почти сразу угодила в пасть ГУЛАГа, и оттрубила там немалый срок. Так что причин для снисходительного отношения к ее слабостям у Ильи Григорьевича было много. Но не каждый стал бы считаться с этими причинами.
Это все — повторяю — я узнал позже, уже в иные времена. Но и раньше, из рассказов Лены Зониной, у меня тоже сложился все-таки скорее обаятельный образ ее шефа. Даже эти барские его повадки, когда она нам о них рассказывала, в ее освещении выглядели, скорее, мило. Что ж, в конце концов, имеет право. Заслужил. Не толкаться же ему наравне со всеми в приемной у директора издательства. Не хватало еще, чтобы Эренбург целый час дожидался, пока какой-то там Котов соизволит дать ему аудиенцию.
Так-то оно так, думал я, выслушивая эти Ленины доводы. Но ведь он — писатель. Как можно быть писателем, отгородившись такой стеной от жизни, которой живут его герои? Позабыв о том, как мерзнут они на трамвайных и автобусных остановках и толкутся в очередях, часами просиживают в приемных у разных мелких начальников, да так и уходят ни с чем, несолоно хлебавши.
Вот поэтому-то так бледны, — думал я, — его романы. Поэтому и образы его постоянных героев такие схематичные, безжизненные: в каждом романе непременно какая-нибудь ткачиха, заливающаяся слезами над страницами «Анны Карениной», и такой же — из романа в роман кочующий — рабочий парень, заходящийся восторгом от стихов Пастернака. Поглядел бы он на этих ткачих и на этих рабочих парней в натуре!
Все эти свои — как теперь принято выражаться, амбивалентные — ощущения я высказал и Володе Файнбергу, когда он делился со мной своими впечатлениями о встрече с живым Эренбургом. Но Володя от «старика» был в восторге, и, слушая его, я не то чтобы ему позавидовал, но, грешным делом, подумал, что ведь мог бы не только ему, но и себе — через ту же Лену — с легкостью устроить такую же встречу. Может быть, даже мне удалось бы сойтись с Эренбургом поближе, чем это вышло у Файнберга. А поводов для знакомства нашлось бы сколько угодно.
Сейчас я уже не помню, почему, с такой легкостью обратившись к Лене с просьбой устроить встречу с ее шефом Володе Файнбергу, попросить ее устроить такую же встречу и мне тоже я постеснялся. И так с Ильей Григорьевичем тогда и не познакомился.
Познакомился я с ним позже и совсем при других обстоятельствах.
В конце 1959 года я стал работать в «Литературной газете».
Меня позвал туда мой старый литинститутский товарищ Юра Бондарев, ставший там членом редколлегии и редактором отдела литературы. А его пригласил сменить на этом посту Михаила Алексеева новый главный редактор «Литературки» Сергей Сергеевич Смирнов («Брестская крепость»).