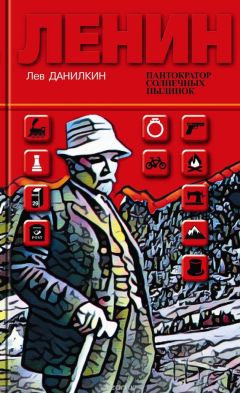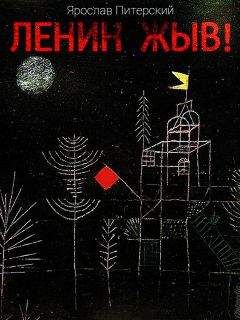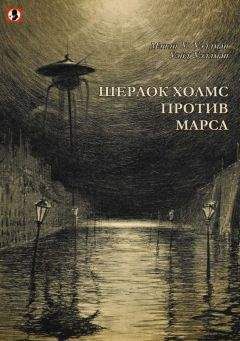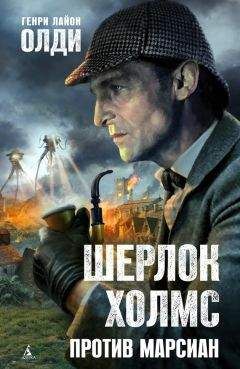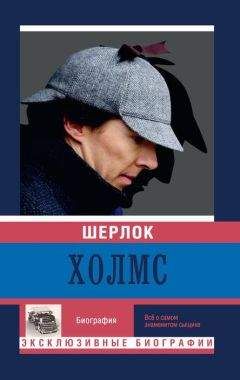В шестом классе 100 уроков посвящалось «Илиаде», в седьмом еще 100 – «Одиссее», и хороший гимназист по результатам этих масштабных археологических раскопок мог в деталях реконструировать любой фрагмент гомеровского мира и описать его эволюцию от более архаических форм в «Илиаде» к более современным в «Одиссее»; тема работы семиклассника могла звучать, например, как «Собака у Гомера». В топ-10 текстов, к которым обращались чаще прочего, входили «Анабасис», «Киропедия», «История Пелопоннесской войны», «Антигона» и «Эдип-царь». Ленин определенно лучше был знаком с историей, которая представлена в виде трагедии, – и испытывал неприязнь к повторению в виде фарса. Литература на всю жизнь осталась для него не менее адекватным способом «расшифровки» действительности, чем естественные науки; и если старший брат изучал мир, исследуя под микроскопом повадки кольчатых червей, то младший готов был реконструировать мировое устройство, копаясь в образах и символах сначала «Илиады» и «Одиссеи», а затем Чернышевского и Толстого; первые навыки расшифровывать литературу и обнаруживать в ней признаки социальных кризисов ВИ получил именно в гимназии.
За курс обучения – рассчитанный на среднестатистического ученика и слишком затянутый для ВИ (сам он впоследствии говорил, что 80-месячный курс обучения, при «сознательности», можно пройти за два года) – гимназисты должны были представить около ста сочинений; старшеклассники сдавали домашние композиции раз в месяц, и судя по тому, что после 1917 года Ленин всегда писал в анкетной графе «профессия» – «литератор», эта практика не была для него мучительной. Уроки литературы вел – по необъяснимому совпадению – отец будущего премьера Временного правительства России в 1917 году – Ф. Керенский, о котором Ленин «отзывался очень хорошо» (Н. Валентинов); вряд ли они обсуждали на уроках «Что делать?», но классику – Пушкина и окрестности, до Толстого – разбирали всерьез. Ни одного письменного школьного сочинения Ленина не сохранилось, но известно, что ему приходилось резюмировать свою жизнь в форме письма товарищу, размышлять о наводнениях, формах выражения любви детей к родителям, зимних вечерах, быте рыцарей и Волге в осеннюю пору; тестировать распространенные рекомендации вроде «не всякому слуху верь», «конь узнается при горе, а друг при беде» и «жалок тот, в ком совесть нечиста»; сравнивать зиму и старость, глушь и пустыню, птицу и рыбу, скупость и расточительность; поощрялось умение абстрагироваться от деталей и выйти на более широкие обобщения даже в сугубо «утилитарных» темах: польза ветра, польза гор, польза, приносимая человеку лошадью, польза путешествий, польза земледелия, польза изобретения письменности.
Сочинения о годах, проведенных в Симбирской гимназии под сенью великого одноклассника, оставили сразу несколько соучеников ВИ – и все характеризуют его как некоторым образом достопримечательность 1880-х годов: особенного типа, задававшего интеллектуальную планку для всех прочих учеников потока; иногда так и буквально – учитель латыни «обычно говорил в конце урока: “Ульянов, переведите дальше”», и что тот успевал перевести экспромтом, с листа, «то и было заданием всему классу». Культ первой скрипки, харизматичной личности – более упорной, прилежной, дисциплинированной, настойчивой, чем масса, – был знаком ВИ со школы; неудивительно, что на него такое впечатление произвело «Что делать?» и, в частности, фигура Рахметова – ведь сам он оказывался идеальным кандидатом на эту вакансию в реальной жизни.
Одноклассники рассказали о том, как ВИ, начитавшись «книги про жизнь насекомых», водил приятелей раскапывать норы навозных жуков – и устраивал мини-лекции о роли скарабеев в Древнем Египте; как, вооружившись запасом свечных огарков и веревок, посвятил несколько дней исследованиям подвалов под домом школьных воспитателей, где когда-то содержали пленного Пугачева, – в поисках подземного хода, выкопанного для побега; как лазил по деревьям за новыми экспонатами для своей коллекции птичьих яиц; как ходил на пристань и расспрашивал грузчиков из Персии о секретах разведения шелковичного червя; как ездил, под впечатлением от гончаровского «Обрыва», в Киндяковскую рощу, описанную в романе.
Среди одноклассников ВИ выделяются двое; оба оставили кое-какой след в отечественной истории: писатель, фольклорист и поэт Аполлон Коринфский (его дед, на самом деле Варенцов, был архитектором; увидев один из его проектов – здания Казанского университета, восхищенный Николай Первый воскликнул: да какой же это Варенцов, это какой-то Коринфский! Последовавшая смена фамилии вряд ли принесла счастье ее обладателям в Советской России, но в классической гимназии была как нельзя более уместной) и последний министр земледелия николаевской России А. Наумов, у которого в силу исторических обстоятельств немного поводов вспоминать Ульянова добрым словом. Тем не менее Наумов уверенно квалифицирует ВИ как «центральную фигуру» в классе, признаёт, что при «невзрачной внешности» глаза у того были «удивительные, сверкавшие недюжинным умом и энергией», – и отмечает несколько «резких» отличий ВИ от всех прочих. Он не принимал участия в забавах и шалостях, все время что-то читая, записывая или играя в шахматы (всегда выигрывал, даже когда играл с несколькими противниками). Ни с кем не дружил – но со всеми поддерживал ровные отношения; со всеми на «вы». «Отличался… необычайной работоспособностью»; «я не знаю случая, когда Володя Ульянов не смог бы найти точного и исчерпывающего ответа на какой-либо вопрос по любому предмету. Воистину, это была ходячая энциклопедия, полезно-справочная для его товарищей и служившая всеобщей гордостью для его учителей. Как только Ульянов появлялся в классе, тотчас же его обычно окружали со всех сторон товарищи, прося то перевести, то решить задачку. Ульянов охотно помогал всем, но насколько мне тогда казалось, он всё же недолюбливал таких господ, норовивших жить и учиться за чужой труд и ум». Знал о своем интеллектуальном превосходстве над товарищами – но никогда не подчеркивал его. Принимал участие в гимназических благотворительных балах – но, не любя танцевать, брал на себя должность «распорядителя», организатора концерта.
Все это выглядит слишком хорошо, чтоб не вызывать подозрений: неужели он в самом деле все восемь лет был шелковым – и даже не попытался швырнуть пару раз в своих одноклассников калошами? Или продемонстрировать кому-либо то, что в политике позже обозначал метафорой: «рукой за горло и коленкой на грудь»? Об этом мемуаристы помалкивают; нам не известно ни одного серьезного конфликта – ни с учителями, ни с одноклассниками, ни с родителями, ни с братьями-сестрами, ни с соседями, ни с какими-то женщинами. Разве что – состоявшийся то ли в 1885-м, то ли в 1886 году, еще при живом отце, отказ от религии (мы знаем об этом эпизоде в изложении Крупской). Во всем прочем – «сын чиновника», «добрые плоды домашнего воспитания», «особенное увлечение древними языками» – безупречный фундамент для успешного, готового к сотрудничеству члена общества. «Ни в гимназии, ни вне ее, – это уже Керенский, – не было замечено за Ульяновым ни одного случая, когда бы он словом или делом вызвал… непохвальное о себе мнение».
Анабасис в страну классической филологии подходил к концу, и ВИ уже тренировал голосовые связки, чтобы погромче выкрикнуть «Талатта, талатта!», но тут – в марте 1887-го – произошло нечто такое, что заставило его оторваться от античных текстов. Старший брат арестован в Петербурге; мать уезжает к нему, чтобы чем-то помочь; ВИ остается в семье за старшего; а в мае, ровно в момент выпускных экзаменов, оказалось, что попытки матери спасти брата от казни не увенчались результатом; он повешен.
Роль Керенского в судьбе ВИ обычно сводят к выдаче весьма похвальной характеристики (драматически контрастирующей как с той, которой он сподобится буквально через несколько месяцев, в университете: «скрытный, невнимательный, невежливый», так даже и с сестринской: «самоуверенный, резвый и проказливый мальчик») в тот момент, когда он оказался братом государственного преступника, в крайне слабой позиции. На деле роль эта еще больше.
Энергичный и добросовестный директор Керенский превратил Симбирскую гимназию из действующего десять месяцев в году фестиваля провинциальных эксцентриков со странными наклонностями в образцовое для своего времени, регулярно проветриваемое заведение, где состав преподавателей, атмосфера и оборудование (в физическом кабинете стояли дорогая «электрическая машина» и фонограф, впервые, надо полагать, записавший голос Ульянова) были на уровне столичных.
Несмотря на то что старший брат отсоветовал отдавать ВИ в подготовительный класс, чтобы тот не сразу угодил в лапы гимназических церберов, непохоже, что учеба и учителя как-либо досаждали ему. Некоторые, наоборот, вызывали восхищение – среди них «классный наставник», преподаватель физики Федотченко, который считался лучшим конькобежцем в Симбирске и зимой устраивал показательные выступления: выписывал на льду свою фамилию; присев на одной ноге, крутился волчком. «Ульянов искренне говорил, что ему завидует», – вспоминает один из одноклассников. Сам Керенский, которому чин действительного статского советника едва ли позволял проделывать столь же впечатляющие трюки, тем не менее оставил по себе самую добрую память, и даже советские историки вынуждены были зачехлить свои лупы, не обнаружив ничего такого, что можно было бы поставить на вид отцу премьера, которого Ленину придется выкуривать из Зимнего в октябре 1917-го; кроме разве что «четверки» по логике, которую тот влепил-таки ВИ, несколько подпортив ему диплом. Ленину, безусловно, повезло с Керенским – в своей гимназии он увидел, как государственный аппарат может действовать разумно, стремиться к самообновлению и приносить общественную пользу. Возможно, это ощущение стало антидотом от идеи устроить на него прямую террористическую атаку.