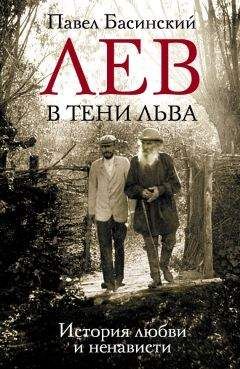Может быть, мать удержала бы своих детей от многого дурного, и в жизни Толстого не было бы бездны тех падений, которые впоследствии так его мучали… Может быть, не было бы мук раскаяния и тех могучих взлетов кверху, которые мы наблюдаем в продолжение всей его жизни.
Дети Толстые остались на попечении старой бабушки, глубоко религиозной, доброй тетушки Александры Ильиничны, но главную заботу и воспитание детей взяла на себя тетенька Татьяна Александровна Ергольская, третье, по словам Толстого, после отца и матери лицо в смысле влияния на его жизнь. Она была очень дальняя родственница бабушки по Горчаковым. Она и сестра ее Лиза остались маленькими девочками, бедными сиротками, от умерших родителей. Было еще несколько братьев, которых родные как–то пристроили. Девочек же порешили взять на воспитание знаменитая в своем кругу, властная и важная Татьяна Семеновна Скуратова и Пелагея Николаевна Толстая; свернули билетики, положили их под образа и, помолившись, вынули. Лизонька досталась Скуратовой, а черненькая Танечка — бабушке.
Танечка была одних лет с Николаем Ильичей, воспитывалась наравне с Пелагеей и Александрой Ильиничной и была всеми нежно любима, да и нельзя было не любить ее за твердый, решительный и энергичный характер. Она была очень привлекательна со своей жесткой, черной, курчавой, огромной косой и агатово–черными глазами с оживленным, энергическим выражением.
«Когда я стал помнить ее, ей было уже за сорок, — пишет Толстой в своих воспоминаниях, — и я никогда не думал о том, красива или некрасива она. Я просто любил ее, любил ее глаза, улыбку, смуглую, широкую маленькую руку с энергической поперечной жилкой».
Тетенька Татьяна Александровна была одной из тех цельных, сильных, самоотверженных натур, которые умеют любить, жертвуя собой, с огромным чувством долга и самоотречения, в которых она видела цель и смысл и, может быть, радость своего существования.
«Должно быть, она любила отца, и отец любил ее, но она не пошла за него в молодости для того, чтобы он мог жениться на богатой моей матери; впоследствии же она не пошла за него потому, что не хотела портить своих чистых, поэтических отношений с ним и с нами…».
Никто не подозревал об истинных отношениях ее к Николаю Ильичу. Никто до ее смерти не знал и о записочке Ергольской от 16 августа 1836 г., где она пишет: «Николай сделал мне сегодня странное предложение — выйти за него замуж, заменить мать его детям и никогда их не покидать. В первом предложении я отказала, второе я обещалась исполнять, пока я буду жива».
А на другом обрывочке почтовой бумажки, найденном после ее смерти, оказалась следующая запись: Il у a des blessures qui ne se ferment jamais, je ne parle pas des chagrins qui dans ma jeunesse vinrent m'assaillir. Le plus vif, le plus cuisant, le plus sensible fut la perte de N. Elle me dechira le cceur et je ne connais bien que de ce moment que je I'avais tendrement aime».
(«Бывают раны, которые никогда не заживают. Я не говорю о тех печалях, которыми было полно мое детство. Самым живым, жгучим, болезненным горем была утрата Н. Она мне растерзала сердце, и только с этого момента поняла я по–настоящему, как нежно я его любила».)
«Главная черта ее была любовь, но как бы я ни хотел, чтобы это было иначе — любовь к одному человеку — к моему отцу. Только уже исходя из этого центра, любовь ее разливалась и на всех людей. Чувствовалось, что она и нас любила за него, через него и всех любила, потому что вся жизнь ее была любовь», — пишет Толстой. В другом месте он продолжает: «…Татьяна Александровна имела самое большое влияние на мою жизнь. Влияние это было, во–первых, в том, что еще в детстве она научила меня духовному наслаждению любви. Она не словами учила меня этому, а всем своим существом заражала меня любовью.
Я видел, чувствовал, как хорошо ей было любить, и понял счастье любви. Это первое. Второе то, что она научила меня прелести неторопливой, одинокой жизни».
ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ ПРОБЛЕСКИ
«Вот первые мои воспоминания:… я связан; мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать, и я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик, но я не могу остановиться. Надо мною стоят нагнувшись кто–то, я не помню кто, и все это в полутьме, но я помню, что двое, и крик мой действует на них; они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче. Им кажется, что это нужно (то–есть, чтобы я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком, противным для самого меня, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы и жалость над самим собой. Я не знаю и никогда не узнаю, что такое это было: пеленали ли меня, когда я был грудной, и я выдирал руки, или это пеленали меня уже, когда мне было больше года, чтобы я не расчесывал лишаи; собрал ли я в одно это воспоминание, как то бывает во сне, много впечатлений, но верно то, что это было первое и самое сильное мое впечатление жизни. И памятны мне не крик мой, не страдания, но сложность, противоречивость впечатлений. Мне хочется свободы, она никому не мешает, и меня мучают. Им меня жалко, и они завязывают меня, и я, кому все нужно, я слаб, а они сильны.
Другое впечатление — радостное. Я сижу в корыте, и меня окружает новый не неприятный запах какого–то вещества, которым трут мое маленькое тельце. Вероятно, это было отруби, и вероятно, в воде и корыте, но новизна впечатлений отрубей разбудила меня, и я в первый раз заметил и полюбил свое тельце, с видными мне ребрами на груди, и гладкое, темное корыто, засученные руки няни, и теплую парную стращенную воду, и звук ее, и в особенности ощущение гладкости мокрых краев корыта, когда я водил по ним ручонками.
Странно и страшно подумать, что от рождения моего и до трех, четырех лет, в то время, когда я кормился грудью, меня отняли от груди, я стал ползать, ходить, говорить, сколько бы я ни искал в своей памяти, я не могу найти ни одного воспоминания, кроме этих двух. Когда же я начался? Когда начал жить? И почему мне радостно представлять себя тогда, а бывало страшно; как и теперь страшно многим, представлять себя тогда, когда я опять вступлю в то состояние смерти, от которого не будет воспоминаний, выразимых словами. Разве я не жил тогда, эти первые года, когда учился смотреть, слушать, понимать, говорить, когда спал, сосал грудь и целовал грудь и смеялся и радовал мою мать? Я жил, и блаженно жил. Разве не тогда я приобретал все то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и одной сотой того». Сознание проснулось в Толстом очень рано. В самом раннем детстве обнаружились некоторые черты его характера, которые остались в нем на всю жизнь.
«Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! — пишет он в своей повести «Детство». — Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней! Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений…»