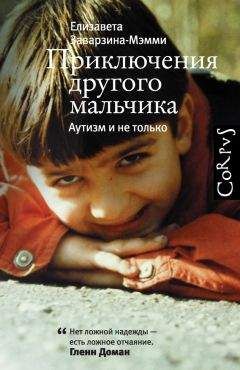Мать была второй из девятерых детей в семье и второй по старшинству дочерью. Семья ее была бедна, и вместо справедливого распределения скудных излишков между всеми детьми все доставалось старшей дочери.
У старшей были куклы, красивые платья, уроки танцев — а всех остальных одевала и развлекала Армия Спасения. Мать смотрела на сестру с восхищением и ненавистью. Бросив попытки с ней соперничать, она выбрала себе роль старшей среди братьев — и в ней преуспела. Эта роль была не так красива, не так завидна, не внушала особенного самоуважения, однако дала какое-то положение и возможность отомстить — жестоко доставать сестру и ее подруг (своих друзей у матери не было).
Сестра ее расцветала в лучах внимания, сделалась очаровательной девушкой, всеобщей любимицей. Со временем она заплатила за это стыдом и чувством вины — и обратилась к младшей сестре, моля о прощении; но мать уделила ей столько же милосердия, сколько я матери — ни капли.
* * *
Казалось, дети здесь повсюду. Розовые руки и ноги торчат из тел, запакованных в черные леотары с надписью «Школа танцев Уиллоуби». Резкий голос инструктора прорезает шум — и гвалт детских голосов стихает.
Дети выстраиваются в ряды. Все мы образуем огромный квадрат из параллельных линий. «Смотрим вперед… Нет, ты подвинься левее… да нет, не правее-левее! Ты становись здесь…» Навязчивые руки тормошат, куда-то двигают, что-то показывают. Смотрю себе под ноги. Стены вокруг меня сдвигаются.
Музыки почти не слышу. Слишком много суеты вокруг, слишком много всего вторгается в мое пространство и мое сознание. Сжав кулаки, я топаю ногой и несколько раз плюю на пол. «Заберите ее, миссис Уильямс, — говорит учитель, мистер Уиллоуби. — Боюсь, для занятий она еще мала. Приходите через пару лет».
Мать пристыжена — все ее мечты и надежды разлетелись в прах. Я смотрю в пол. Меня больно дергают за руку. Поднимаю глаза. Она цедит безжалостно:
— Все, с меня хватит. Ты отправляешься в детдом!
Помню свой ужас; должно быть, он выплеснулся наружу по дороге домой, но этого я уже не сознавала. Вот так из Уилли не вышло балерины.
После этого мать начала видеть во мне не себя саму в детстве, а свою избалованную сестру. Я стала для нее «Мэрион», а чаще, чтобы подчеркнуть ее ненависть, — «Мэгготс»; и «Мэгготс» я осталась на долгие годы.
Девочка из зеркала смотрит на меня,
Думает: я сумасшедшая, верит, что я свободна.
Но, глядя на нее, я вижу в ее глазах:
Она пытается понять, что я не лгу,
Я просто ищу дорогу домой — к себе.
* * *
В конце нашей улицы был парк, а по дороге к нему росли розы. Там стояли дома, и у каждого особое название. Тот, что в конце, назывался «Розовый дом».
Ранним утром я покидала дом и отправлялась на поиски приключений. Наблюдала за рыбками в пруду у мистера Смита, заглядывала через стеклянные задние двери в дом розовой леди, танцевала в их садах, распевая песни или громко декламируя подхваченные где-то стихи. Еще я ела цветы в горшках у Лининой матери или обрывала лепестки у роз в саду розовой леди, подбрасывала их высоко в воздух и шагала сквозь них, словно сквозь звездочки вокруг кровати. Быть может, издалека я казалась ангелочком — но, подойдя ближе, вы разглядели бы бесенка. Розовая леди ни разу не говорила мне, чтобы я не трогала розы. Однажды кто-то что-то сказал о том, как я пою. Тогда я перестала петь на глазах у людей; но еще много лет понадобилось мне, чтобы понять — когда я их не вижу, они все равно меня слышат.
* * *
Парк был волшебной страной. Я залезала на качающуюся доску, ложилась посредине и качалась, поднимая то голову, то ноги. Качаясь на качелях, я делала так, чтобы Линин двор то появлялся, то исчезал, и смеялась этому. Иногда Лина выходила во двор и видела меня. Порой она выходила в парк или кричала мне, чтобы я шла к ней. Я только смеялась — и раскачивалась все выше и выше. На такой высоте никто не сможет меня тронуть.
Лина и ее мать говорили только по-итальянски, и мне нравилось слушать их разговоры. Голоса у них были мягкие, и даже приказы звучали совсем не зло.
Мне нравилось, как пахнет у них дома, нравились разные интересные вещи, на которые и сквозь которые можно было смотреть. Хрустальные бокалы в шкафах полированного дерева, выстроенные в ряд на зеркальных полках — гордо, словно на сцене. Гладкий, сияющий, как будто шелковистый пол. Такой пол прямо съесть хотелось. И все здесь хотелось потрогать. Я терлась щекой о занавески, о шкафы, о сиденья, о стеклянную дверь.
Мать Лины говорила, что я красавица, и угощала меня кусочками кальмара. Кальмар мне нравился, потому что нравилась Линина мать. Когда она смеялась, глаза ее танцевали, и все тело тряслось от смеха.
Нравилась мне и Лина. У нее был старший брат-задира — это мне было понятно.
Линина мать спрашивала, что случилось с ее цветами — их как будто кто-то покусал. Я отворачивалась, стараясь сдержать смех.
* * *
В парке жило мое любимое дерево. Я забиралась на него — обычно на самую высокую ветку, до какой могла добраться — цеплялась ногами и раскачивалась, повиснув вниз головой. Иногда пела, иногда просто мычала какой-нибудь мотив. Все вокруг двигалось в ритме музыки — и я была счастлива.
«Это ты?» — жестом спрашивала Лина. Я смотрела ей в глаза — и мои глаза не лгали.
В один прекрасный день я качалась на своем дереве. Подошла какая-то девочка и заговорила со мной. Звали ее Кэрол. Должно быть, я ей показалась странной: на мне не было ничего, кроме белой кружевной ночнушки, да и та задралась, прикрыв голову и выставив на обозрение все остальное. Еще больше, наверное, поразило ее мое лицо; я стащила мамину косметику и разрисовала себя узорами. Мне думалось, что это очень красиво. Вид, наверное, был жуткий.
Порой, раскачавшись особенно высоко, я просто разжимала ноги, соскальзывала с ветки — и летела, а потом с грохотом приземлялась. Иногда мне удавалось сгруппироваться. В других случаях после такого приземления на мне появлялись царапины и ссадины. Но не все ли равно? Я вскакивала и отправлялась на поиски новых приключений. Мир мой был богат — но, как многие богачи, я была очень одинока.
И я пошла с этой большой девочкой. Ее воодушевление меня поразило и увлекло, хоть я не понимала почти ни слова из того, что она говорила. Я слышала слова. Может быть, их повторяла. Но значение для меня имели лишь ее действия и их способность меня увлечь, как увлекало меня все новое.
* * *
Мы пошли к Кэрол домой. У нее оказалась мать. Увидев мое лицо, она пришла в ужас. А я не понимала, чему она ужасается — ведь такие красивые цвета! Обе они смеялись. При мне люди часто смеялись — все, кроме матери.