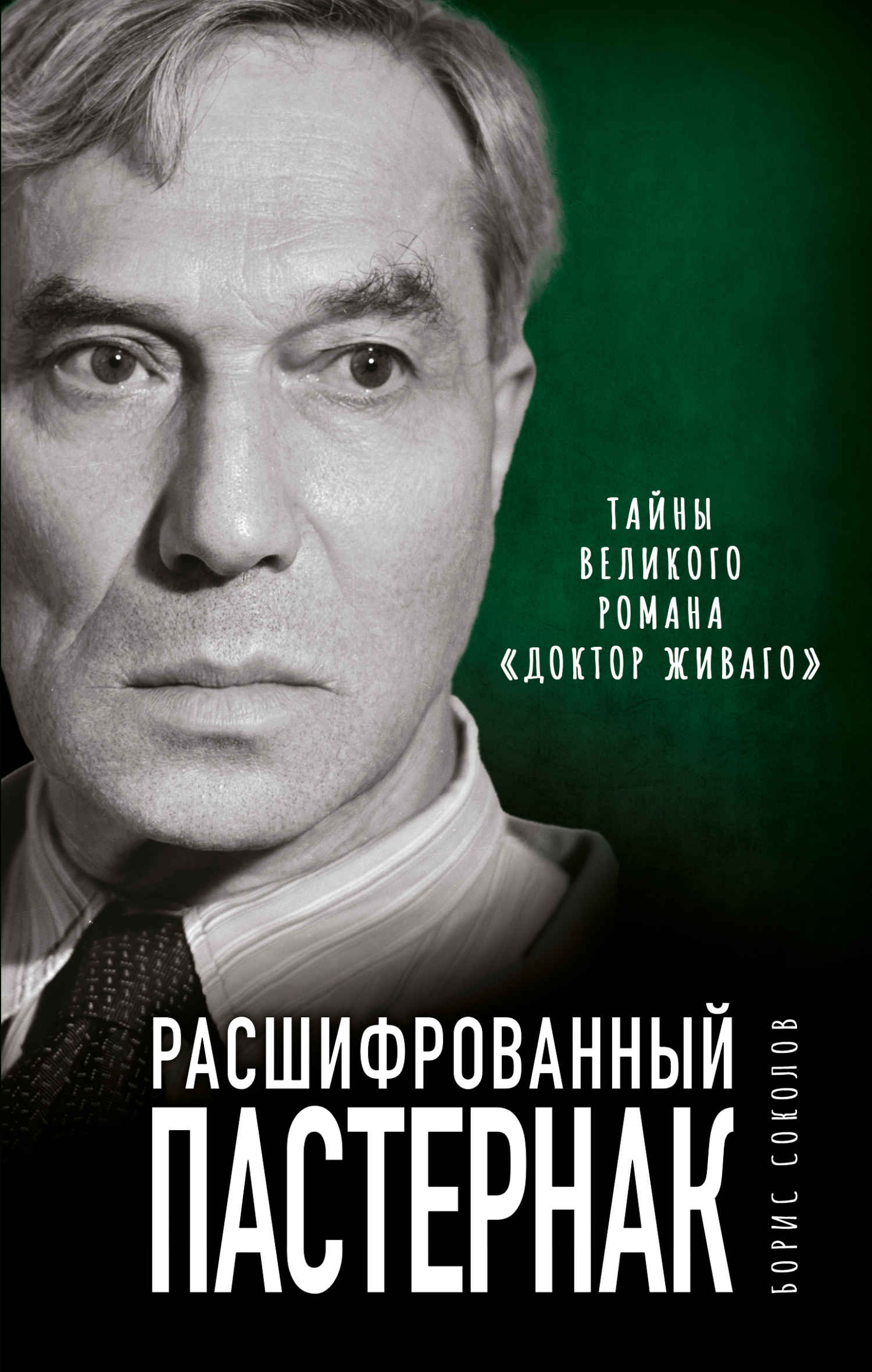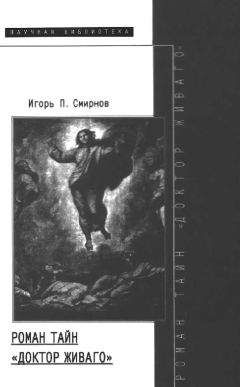О нем есть официальное мнение «Правды». И потом, что это все прицепились к нему – он писал, что думал, и имел на это полное право, мы его не купили». А Тарасенков набросился: «Ах так, а нас, значит, купили. Мы с вами купленные». Я говорю: «Мы – другое дело, мы живем в стране, имеем перед ней обязательства».
Поэт Павел Антокольский заметил, согласно донесению того же сексота: «Пастернак трижды прав (в том, что отказался подписать письмо против А. Жида. – Б.С(). Он не хочет быть мелким лгуном. Жид увидел основное, – что мы мелкие и трусливые твари. Мы должны гордиться, что имеем такого сильного товарища».
С ним солидаризовался и поэт Александр Гатов: «Пастернак сейчас возвысился до уровня вождя, он смел, неустрашим и не боится рисковать. И важно то, что это не Васильев, его в тюрьму не посадят. А в сущности так и должны действовать настоящие поэты. Пусть его посмеют тронуть, вся Европа подымется. Все им восхищаются».
Сам же критик Тарасенков, которому Пастернак и говорил в кулуарах крамольные слова о Пастернаке, перекочевавшие затем в доклад Ставского, в мемуарных записях изложил этот эпизод следующим образом: «… Наступили события, связанные с процессом троцкистов (Каменев – Зиновьев). По сведениям от Ставского, Б.Л. сначала отказался подписать обращение Союза писателей с требованием о расстреле этих бандитов. Затем, под давлением, согласился не вычеркивать свою подпись из уже отпечатанного списка. Выступая на активе «Знамени» 31 августа 1936 г., я резко критиковал Б.Л. за это. Очевидно, ему передал это присутствовавший на собрании Асмус.
Когда после этого я приехал к Б. Л. – холод в наших взаимоотношениях усилился. И хотя Б.Л. перед наступавшей на меня Зинаидой Николаевной, которая целиком оправдывала поведение мужа в этом вопросе, даже несколько пытался «оправдать» мое выступление о нем, видно было, что разрыв уже недалек.
Через некоторое время я написал Б. Л. письмо о том, что хочу к нему приехать и поговорить. Ответа не было. На банкете в честь конституции – в ДСП (Доме советских писателей. – Б. С.) – у нас с Б.Л. зашел разговор об этом письме. Б.Л. вилял, не отвечая мне прямо даже на вопрос, почему он на него не ответил. Затем разговор зашел почему-то об А. Жиде. Оба мы были в некотором подпитии, и формулировки звучали резко, определенно. Дело свелось к тому, что Б.Л. защищал Жида (речь шла о его книге, посвященной СССР). Я резко выступал против. Если припомнить, что летом мне Б.Л. рассказывал о своем разговоре с А. Жидом, в котором тот отрицал наличие свободы личности в СССР, – то эти высказывания Пастернака приобретают определенный политический смысл. В результате этого разговора произошла резкая ссора, разрыв. Б.Л. заявил, что я говорю общие казенные слова и что разговаривать со мной ему неинтересно.
Позднее об этой нашей беседе, которую слышали многие (Долматовский, Арк. Коган и др.), говорил в своей речи Ставский».
В то же время Пастернак 26 февраля 1937 года на IV пленуме правления Союза советских писателей вынужденно возмущался Андре Жидом: «… Когда появилась книга Андре Жида, меня кто-то спросил – каково мое отношение. Должен сказать, что я этой книги не читал и ее не знаю. Когда прочел об этом в «Правде» (Редакционная статья «Смех и слезы Андре Жида» появилась в центральном партийном органе 3 декабря 1936 года. – Б. С.) , у меня было омерзение, не только то общее, которое вы испытывали, но, кроме того житейское, свое собственное омерзение. Я подумал: он со мной говорил, и говорил не просто, он как-то меня мерил – достаточно ли я кукла или нет, и, по-видимому, он меня счел за куклу. И вот когда меня спросил человек относительно Андре Жида и моего отношения к тому, что он написал, я просто послал его к черту, я сказал – оставьте меня в покое.
Когда я ездил на съезд в Париж, я вследствие болезни не бывал у Андре Жида, хотя он тогда был апробированной личностью и у него бывали все. Когда он приехал сюда, я не приехал его встречать. После всего этого, после речи на Красной площади, он сам явился ко мне, и не успел я его узнать, меня спросили об этом человеке. Я сказал: поговорите со мной о Мальро, а об Андре Жиде я буду говорить с вами немного погодя (Смех).
Что вам сказать о моем отношении? Это все ужасно. Я не знаю, зачем Андре Жиду было нужно каждому из нас смотреть в глаза, щупать печенку и т. д. Я этого не понимаю. Он не только оклеветал нас, но он усложнил наши товарищеские отношения. Иногда просто человек скажет – я отмежевываюсь. Я не говорю этого слова, потому что не думаю, чтобы моя межа была настолько велика, чтобы отмежевывание мое могло вас интересовать. Но все-таки я отмежевываюсь (Смех.)».
Однако это не отражало его подлинного отношения к Андре Жиду, что было прекрасно известно и в писательской среде, и в компетентных органах. Да и фраза насчет «отмежевывания» была не без скрытой издевки над теми, кто требовал «отмежевывания». Слова о куклах вообще была скрытая цитата из любимого и переводимого Пастернаком Генриха Клейста (его перевод драмы Клейста «Принц Гомбургский» был опубликован в 1940 году, а в 1937 году Пастернак готовил его к публикации в «Знамени», которая не состоялась). Клейст утверждал, что естественностью в движениях обладают только куклы и Бог, а не танцоры, которые, вследствие заданности своих движений, часто выглядят неестественно. Получается, что, открыв правду о Советском Союзе французскому писателю, Пастернак поступил естественно. В собрании писателей, где он выступал, только он один был куклой, все остальные – танцорами.
Неизвестно, дошло ли это вымученное отмежевывание до Андре Жида. Но даже если дошло, французский писатель своего отношения к Пастернаку нисколько не изменил.
В 1941 году в беседах с критиком Александром Бахрахом, жившим вместе с Буниным, Жид вспоминал, что «боялся рассказывать о своей огромной симпатии к Пастернаку, которая – он это подчеркивал – пробудилась у него молниеносно, чуть ли не при первой встрече. Он говорил, что Пастернак открыл ему глаза на происходящее вокруг, предостерегал его от увлечения теми «потемкинскими деревнями» или образцовыми колхозами, которые ему показывали».
А 28 августа 1941 года Иван Бунин записал в дневнике после визита Андре Жида: «В восторге от Пастернака как от человека – это он мне открыл глаза на настоящее положение в России».
Замечу, что Андре Жид писал в дневнике 15 января 1945 года: