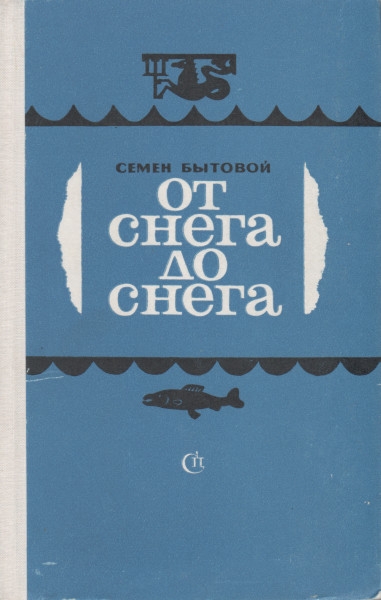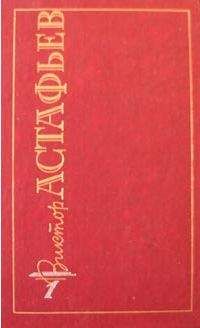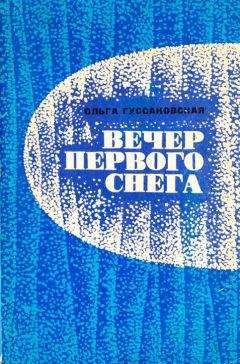не знал, что дальневосточные краевые газеты называют сокращенно — ТОК («Тихоокеанский комсомолец»), ТОЗ («Тихоокеанская звезда»), и ответил секретарю крайкома не сразу, подумав, с какого же это горя мне, ленинградскому писателю, хоть и молодому, но уже издавшему в центре четыре книги стихов и прозы, идти работать в какой-то ТОК, да и что я смыслю в электричестве?
— Нет, товарищ Листовский, пошлите меня лучше в вашу молодежную газету.
Он откинулся на спинку стула, громко рассмеялся:
— Я и посылаю тебя в «Тихоокеанский комсомолец», именуемый сокращенно ТОК!
— Простите, я не знал...
— Ладно, пойдешь с моей запиской к редактору Володе Шишкину, пусть он тебя зачислит в штат, а на ближайшем заседании бюро вынесем специальное решение. — И, вырвав из блокнота листок, написал всего несколько слов: «Володя, поговори с Семеном. По-моему, парень для нашего ТОКа подходящий. П. Л.»
Передавая мне записку, он достал из накладного кармана гимнастерки два червонца.
— Бери на первое время, сгодится...
— Да что вы, товарищ секретарь крайкома! — воскликнул я, чувствуя, что краска заливает мне лицо. — С какой это стати вы мне даете деньги...
Мне показалось, что он и сам немного смутился, не ожидал, видимо, что я откажусь.
— У Фадеева так брал, а у меня стесняешься, — произнес он шутливо. — Ладно, я скажу редактору, чтобы выдал тебе аванс.
Оказалось, пока я шел из крайкома в редакцию, он уже успел переговорить по телефону с Шишкиным, так что вопрос о моем зачислении в штат был решен. Правда, редактор еще долго беседовал со мной, как бы прощупывая, на что я гожусь, потом рассказал о крае, о командировках, какие предстоят мне на первых порах.
— Ты еще с нашим секретарем поговори, он старый дальневосточник. — И добавил: — А пока пойди к Киргизову, он тебе выдаст аванс.
В то время редакция не имела бухгалтерии, всем хозяйством, в том числе и финансами, управлял Володя Киргизов, щуплый, разбитной парень, любивший похвастать, что все у него «в ажуре». Он лично получал деньги в госбанке за распространение газеты и за выездные многотиражки, которые выпускали сотрудники редакции и на краболовах, и на путине, и в леспромхозе, и хранил порядочные суммы в своем заветном, похожем на сундук сейфе с таинственным замком. Так что в любое время можно было получить у Киргизова аванс задолго до получки.
В тот день, повторяю, я и познакомился с Петром Комаровым. Знакомство наше быстро перешло в дружбу, и все восемь лет, что мне посчастливилось жить в Хабаровске, мы почти не разлучались.
На первых порах, после того как я ушел от Шишкиных, Петр приютил меня у себя, в старом бревенчатом доме на высоком кирпичном фундаменте по улице Серышева. Мы и спали с Петром плечо к плечу на полу, потому что железная койка была узка на двоих, а Комаров не мог допустить, чтобы я, гость, укладывался на пол, и, чтобы никому не было обидно, он стащил с койки набитый стружками тюфяк, бросил его в угол комнаты и заявил:
— Тогда давай вместе!
А какая любезная мама Таня была у Петра! Маленькая, тихая, она двигалась по комнате, точно плыла, бесшумно, в длинной холщовой юбке до пят и в белом платочке на голове, завязав его так, что узелок приходился на подбородке.
Как она была рада, что Петя привел меня, «бесквартирного».
— А я на стесню вас, Татьяна Семеновна?
Она всплеснула своими белыми ладошками:
— Да господь с вами, сынок. Когда Петя сказал мне, что вы без своего угла, я велела поскорей привести вас.
Когда мы с ней иногда оставались вдвоем — сын уходил дежурить в редакцию, — мама Таня делилась со мной своими тревогами за Петю, который по ночам стал сильно кашлять.
— Я уж глаза свои выплакала, сынок, вы сами это видели...
Узенькие, как щелочки, глаза ее уже в ту пору начали слепнуть и через несколько лет закрылись вовсе. Ей, старенькой, ходившей по квартире на ощупь, не суждено было видеть ни Петра в самый расцвет его таланта, ни чудесных детишек его — внучат Таньку и Сережку.
Однажды при Петре она мне пожаловалась:
— Никак не уговорю его к доктору сходить.
— Ну зачем же, мама, — возразил Петр, — недавно я в военкомате целую медицинскую комиссию проходил. Ничего худого не нашли у меня, признали: годен!
— Дай бог, сынок, чтобы годен...
Как ни трудно разлучаться с любимым сыном, втайне мама Таня все свои надежды возлагала на военкомат, только и ждала, чтобы Петю призвали в армию: раз призовут, значит, здоров!
Провожали Петра на военную службу всей редакцией. Много добрых слов было сказано в напутствие ему, а на душе у нас скребли кошки: как останемся без Комарова, ведь он был душой газеты, если хотите, ее совестью, хотя по складу своего характера он больше молчал и делал работу, а когда уж вмешается в какой-нибудь спор, то решит его по справедливости.
В самый разгар проводов, часу уже в одиннадцатом ночи, в комнату как вихрь ворвался секретарь крайкома комсомола Петр Листовский. Он только что вернулся из Комсомольска на катере Амурской флотилии и, вспомнив о Комарове, побежал с речной пристани на улицу Серышева.
Налив в стакан водки, он подошел к Петру, обнял его, поцеловал.
— Мой дорогой тезка! Володя Шишкин слезно молил меня, чтобы я исхлопотал у командарма Блюхера для тебя, Петя, отсрочку. Однако я не внял просьбам редактора, хотя, как вы знаете, Василий Константинович для комсомола все бы сделал. Считаю, что военная служба в нашей героической ОКДВА для журналиста вдвойне почетна. Ведь в нашей газете, к сожалению, слишком мало печатается материалов об Особой Дальневосточной. Поэтому бюро крайкома комсомола будет считать тебя, Петя, своим корреспондентом в армии. — При этих словах Листовский снял с руки свои часы и надел их на руку Комарова. — Это не от меня лично, а от бюро крайкома. Когда приедешь на побывку, сделаем на часах надпись. Счастливого тебе пути, дорогой друг!
На рассвете, едва забрезжила над Амуром заря, мы проводили Комарова на вокзал...
Летом 1946 года, когда я во второй раз после войны приехал на Дальний Восток, мне пришлось подписать