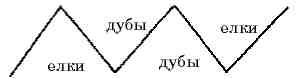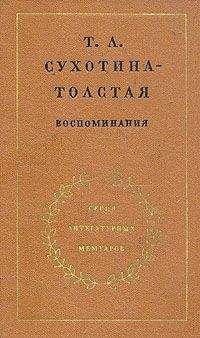С. А. Толстая начала писать свои воспоминания, которым она сама дала название "Моя жизнь", 24 февраля 1904 года. Она не успела закончить свой обширный труд, хотя продолжала работать над записками и после смерти Толстого в 1910 году; к декабрю 1915 года они охватывали годы с 1844 по 1901 год. Последние девять лет жизни с Толстым остались недописанными.
1861--1862. ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ДОМА Так вот, в этот последний год мой дома, знаменитый 1861 год по освобождению крестьян, жила я очень содержательной для себя жизнью. Читала я и страстно, и много, о чем уже упомянула раньше; немного занималась музыкой, пением, рисованием. Приходилось учить маленьких братьев и много шить. Нам давали скроенную материю, белье, и мы обязаны были сами его шить; и часто бывало, что скроенные рубашки лежат в моем красненьком сундучке, а я в это время увлекаюсь чем-нибудь более для меня интересным. Зима 1861--62 года пролетела незаметно и скоро. Первая и последняя зима моей жизни, почти свободная для занятий по моему выбору. Внешняя жизнь не была радостная. Отец мой начал сильно хворать, и желудком и горлом, и настроение его было ужасное. ПРИЕЗД ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА С РЕБЯТАМИ В 1862 г. Весной 1862 года, еще мы не переезжали на дачу, как приехал к нам из Ясной Поляны, проездом на кумыс в Самарскую губернию, Лев Николаевич, и привез двух крестьянских ребят из своей школы: один был сын солдатки Чернов (написавший в школе рассказ "Солдаткино житье"), другой -- кроткий и милый Васька Морозов, сын крестьянина Ясной Поляны13. Мы очень им обрадовались, общение с крестьянскими ребятами нам, городским барышням, было непривычно, но интересно, и мы очень старались с этими мальчиками: показывали им картинки, разговаривали с ними, и Лев Николаевич наблюдал нас и, казалось, одобрял. Пробыли они с нами один день; Лев Николаевич потом приходил к моему отцу и просил его, чтобы он послушал его легкие, нет ли у него чахотки, и дал бы ему разные советы. Два брата Льва Николаевича умерли чахоткой, и он всю жизнь потом ее опасался и принимал против нее меры. И на этот раз он ехал на кумыс в Самарскую губернию, и взял двух ребят, чтоб ему было не так одиноко и скучно. Отец мой нашел легкие Льва Николаевича совершенно здоровыми и организм очень крепкий и сильный. Но на кумыс Лев Николаевич все-таки поехал. Спросил еще он моего отца: можно ли ему жениться, т. е. имеет ли он, по своему здоровью, право жениться. И на этот вопрос отец мой ответил утвердительно. Не знаю, насколько Лев Николаевич поверил ему, но на кумысе он все-таки пробыл более двух месяцев14. Часть II 1862. ТЕТЕНЬКА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА Тетенька Татьяна Александровна15 очень ценила всякое внимание к ней; а, к сожалению, мы, тогда молодые, были очень эгоистично заняты друг другом и недостаточно ценили это доброе, кроткое, самоотверженное существо. Как будто так и должно было, чтобы она нас любила, терпела и баловала своей любовью. И даже сердишься, бывало, на нее за то, что она любит "покушать", что ей покупают миноги и семгу к вербной субботе. А какие же у ней были радости и развлечения? Никаких. Только бы все кругом нее были веселы и счастливы. Намешает она, бывало, варенья из синенькой чашечки в граненую кружку и пьет на ночь маленькими глотками эту сладкую воду, промачивая свои засохшие старческие уста, а я думаю, что тетенька жадная. Как жестоки могут быть молодые! По вечерам тетенька Татьяна Александровна садилась на свой жесткий красного дерева, синий диван с головками сфинкса, на котором спала, и приглашала Наталью Петровну16 разложить пасьянс. "Душечка, Наталья Петровна, сегодня какой разложим пасьянс?" -- спрашивала она. "Умственный,-- отвечала Наталья Петровна, нюхая с наслаждением табак. -- Или "семилетний", или "бессмертный". И вот раскладывались старые карты, и начиналось оживление старушек. "Пропустили, Наталья Петровна, вот сюда туз",-- горячилась тетенька. "Ах, боже мой, вижу",-- оправдывалась Наталья Петровна. Если пасьянс выходил, то обе старушки оживлялись и приходили в восторг. Как я ни старалась, я не могла полюбить ни пасьянсов, ни безика, в который иногда играли старушки и даже Лев Николаевич. Окончив переписку для Льва Николаевича, я приходила в комнату тетеньки и скучала, глядя на оживленные занятия картами старушек. Тогда я переносилась мыслями домой, в свою семью, где было столько и дела, и оживления, и веселья, и мне делалось жаль себя. Я старалась найти свою какую-нибудь личную жизнь, создать свое дело, и часто, не находя его, впадала в апатию, грустно переходя от переписывания Льву Николаевичу к набиванию ему папирос и штопанью чулок и носков. Так я пишу в дневнике в ноябре 1862 года: "Тяжело, что я думаю его (Льва Николаевича) мыслями, смотрю его взглядами, напрягаюсь, им не сделаюсь, себя потеряю". Посетителей бывало очень мало. В эту зиму 1862--63 года приезжала иногда дочь моего деда от второго брака -- Ольга Исленьева. Меня мучила ревность, когда Лев Николаевич играл с ней в 4 руки и любовался ее красотой. Осенью мы ездили с ней и с Львом Николаевичем верхом, и помню, что хотя мы, по-видимому; дружили, но были чужды друг другу. Она холодная, разумная, я -- горячая и неразумная -- все было у нас разно. С ней приезжал и мой дед Исленьев, который раз в Туле очень обыграл Сережу, брата Льва Николаевича, и мне было и совестно, и грустно. Некоторые из студентов школ продолжали еще свои занятия и посещали нас; но отношения с ними были тяжелы, особенно под зорким наблюдением Льва Николаевича17. Он постоянно останавливал меня, делал при них конфузящие меня замечания и всякое мое оживление вызывало в нем подозрительность и ревность. Когда он уезжал на охоту, в Тулу, в Москву -- тогда я всегда писала свой дневник, мрачный и скучающий. Можно подумать, что я всегда была такая. А Лев Николаевич писал большей частью тогда свой дневник, когда косвенно хотел меня уязвить или упрекнуть в чем-нибудь. Так как и то, и другое случалось довольно редко, то и дневники того времени очень коротки, и их немного. Жили же мы очень дружно, почти всегда были веселы, и любили так сильно друг друга, что были совсем поглощены в взаимные интересы. Порою являлись у Льва Николаевича опасенья за мою молодость и страх, что я буду скучать. Вероятно, эти опасения возникали у него вследствие прочитанных им слов в моем дневнике, где я пишу: "Мне тесно и душно здесь, и я сегодня убежала, потому что мне все и всё стало гадко". "...Голоса веселого никогда не слышно, точно умерли все". Но я старалась скрывать это и