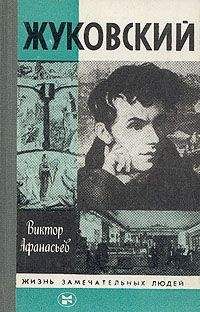Учились по четырехбалльной системе. Ученику разрешалось выбрать себе несколько предметов для изучения из тридцати пунктов программы, охватывающих словесность, историю, военное дело, искусства, разные науки и иностранные и древние языки. Пансионеры отпускались домой по субботам и воскресеньям, а также по праздникам и летом — на июль месяц. Жуковскому в пансионе понравилось все — чистые комнаты, натертые полы, большие аудитории, где скамьи уходят ярусами вверх, доброжелательный вид надзирателей и сердечная улыбка вездесущего Антонского. В свободные часы он бежал в библиотеку. Это была гордость инспектора Антонского. В простенках между огромными окнами стояли высокие шкафы, где за стеклами поблескивало золото кожаных книжных корешков. Обширный дубовый стол, покрытый лиловым бархатом, был завален горами русских и иностранных журналов. Как-то само собой сложилось, что Жуковский отдал предпочтение среди прочих наук истории, словесности, французскому и немецкому языкам и рисованию.
Вскоре он подружился с Александром Тургеневым, сыном директора университета. Он был полупансионер и после занятий шел домой — квартира Тургеневых была в здании университета на Моховой. В эту зиму старший брат Александра Андрей поступил в студенты. Другие братья — Николай и Сергей — были еще малы, восьми и пяти лет. Александр был младше Жуковского на год, — у них было много общего — высокий рост, доброе сердце, заливистый детский смех (у обоих оставшийся таким на всю жизнь). Одно и то же читали они до пансиона (Виланд, Руссо, Сен-Пьер, Жанлис, Херасков, Державин, Карамзин...). В пансионе оба они оказались словесниками — завсегдатаями библиотеки и поклонниками Михаила Никитича Баккаревича, молодого и пылкого преподавателя русской словесности. На его лекциях Жуковский и Тургенев садились у самой кафедры. На верхнем ярусе — по-пансионскому «Парнасе» — затаивались с посторонними книжками любители физики и математики, ничего не желавшие понимать в «просодии» (то есть слогоударении) русского стиха.
Баккаревич проникновенно вещал с кафедры, что поэзия «есть одна из приятнейших наук», которую можно считать «усладительницею жизни человеческой». Он говорил, что «рифмы почитаются от некоторых пустыми гремушками, и это сущая правда, когда в стихах только и достоинства, что рифмы, когда в них нет ни огня, ни живости, ни силы, ни смелых вымыслов, составляющих душу поэзии, одним словом — когда в стихотворце нет дара».
— Русская просодия создана Ломоносовым и подкреплена Державиным, — говорил Баккаревич. Он декламировал стихи, давно известные Жуковскому, но подавал их так, что они начинали сверкать новыми гранями. — Стихотворный язык есть музыка, — продолжал преподаватель. — Иногда одна нота, нестройно, неправильно взятая, портит всю симфонию.
Это особенно врезалось в память Жуковского. Да, музыка... Хорошие стихи, помимо слов и их смысла, несут в себе необъяснимое очарование звуков и ритма. А очарование чувств! Подымающий все твое существо ввысь одический восторг: меланхолия, сладко сжимающая сердце и вызывающая слезы; тревога, страх и дикие порывы студеных стихий северных поэм барда Оссиана... А очарование картин! Луна и туманное кладбище, развалины мрачного замка на скале, блеск весеннего солнца в лазури неба и вод, сонм богов среди мощно клубящихся туч Олимпа, хижина чувствительного философа на берегу лесного ручья... Так начало вырастать в душе Жуковского чувство разлитой в мире поэзии. Лира, арфа, цевница — были для него одновременно и реальность и символы. Прошумел ветер, прогремел гром, прокатившиеся звуки долго отдаются в душе, сладко трепещут в ней замирающие звуки: это божество Поэзии играет на Цевнице, Арфе, Лире. Может быть, оно — горделиво-обнаженное, в лавровом венке, как Аполлон, а может быть, обросшее длинными седыми космами, с угрюмым, вдохновенно-пронзительным взглядом, как Оссиан... Мильтон, Гомер, Камоэнс, Юпг, Поп — имена, обозначенные на корешках книг пансионской библиотеки. Их в России переводили не раз, и если не выходило стихами, так прозой. В томиках журнала «Приятное и полезное препровождение времени», издаваемого Василием Подшиваловым, литератором и педагогом (до Баккаревича он читал в пансионе российскую словесность), — апология чувствительности в духе Карамзина и его «Бедной Лизы», философского уединения среди «сельской натуры», сочувствия к страждущему человечеству. В отрывках, переводах и переделках тут возникала и сплеталась в единое целое мировая литература — философы, историки, писатели, поэты всехевропейских стран и всех времен (но по большей части все же современные — XVIII века) словно бы сошлись на этих страницах во имя торжества в России нового литературного стиля, новой школы, обозначенной именем Карамзина, автора стихотворений, повестей и путевых писем. Подшивалов был карамзинист. Журнал его Антонский сделал обязательным чтением для пансионеров. Тургенев и Жуковский увлекались им столь же страстно как иные ученики многотомным «Всемирным путешествователем» аббата де ла Порта в переводе Булгакова.
В грустном настроении приехал Жуковский в Мишенское на свои первые каникулы — в мае этого года, месяц тому назад, скончалась в Москве Варвара Афанасьевна Юшкова, которой исполнилось только двадцать восемь лет. Овдовевший Петр Николаевич Юшков с девочками тоже приехал в Мишенское — оно было завещано Буниным его семье, однако он не мешал Марье Григорьевне мирно жить тут вместе с Елизаветой Дементьевной и хозяйствовать. Обе они нашли, что в Жуковском совершенно ничего не осталось детского, что он возмужал, посерьезнел, стал говорить почти уже басом, но все такой же добряк и душа нараспашку. Его поселили во флигеле, в бывшей классной комнате. По его просьбе тут сооружены были простые сосновые полки — он решил составить собственную библиотеку. На стол он положил — для ближайшего чтения — двухтомные «Нощные размышления» английского поэта Юнга, переведенные в прозе Алексеем Кутузовым и изданные Типографической компанией Новикова в 1785 году. Юнг был родоначальником так много повлиявшей на развитие лирической поэзии темы «прогулок на кладбище», которая пришлась по сердцу и русским сентименталистам, — она пересеклась в русской поэзии с двумя другими: мрачными и возвышенными фантасмагориями Джеймса Макферсона — его «Поэмами Оссиана» с ночными северными пейзажами, призраками, битвами, скальдами, поющими о былом, — и с учением Руссо, отрицавшего цивилизацию и восхвалявшего доброго от природы «естественного» человека, живущего крестьянской жизнью. С шестидесятых годов XVIII века эта тройственная тема входила в русскую поэзию, пронизывая все литературное сознание читателя.