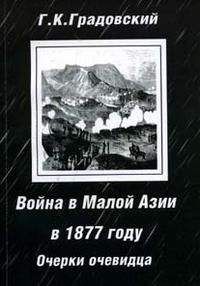Охрана построила евреев из Лунно в колонну по пять и вывела за ворота Келбасино. На станции Лососно их погрузили в поджидавший поезд, и охрана вернулась в Келбасин, где уже ждали следующие[34]. Сам Келбасинский лагерь закрыли 19 декабря, в нем к этому времени оставались только гродненские евреи числом самое большое на один эшелон — около 2000 человек. В основном все из «полезных евреев» — представителей профессий, потребных в местном хозяйстве, и членов их семей. Для слабосильных и больных даже подали подводы![35]
Эшелон с Градовским, проследовав через Белосток, подошел к Варшаве, но налево, в направлении Треблинки, не повернул. Треблинка была у всех на слуху, ее все боялись. Но радоваться было решительно нечему: миновав Катовиц, поезд прибыл в Аушвиц. Произошло это 8 декабря 1942 года.
В Аушвице их «встречали», и на рампе[36] — этом эсэсовском чистилище — произошла заурядная в таких случаях селекция: слабые и не пригодные к труду женщины, старики и дети до 14 лет — всего 796 человек — составили две длинные шеренги слева (отдельно женщины с девочками и отдельно пожилые или слабые мужчины с мальчиками), а остальные 231 человек, крепкие и здоровые мужчины, — еще одну шеренгу, но покороче, справа[37].
Тех, кто оказался слева, затолкали, не церемонясь, в крытые брезентом грузовики, и в тот же день все они — а стало быть, и мать, жена, две сестры, тесть и шурин Градовского — погибли. Грузовики привезли их в местность чуть ли не идиллическую — внешне напоминавшую польский хуторок. После разгрузки всех заставили раздеться в легкой постройке и, дав по кусочку мыла, запустили в переоборудованную из крестьянского дома «баню» с на удивление массивными дверями и небольшим круглым окошком — на самом же деле в газовню.
С недоумением все смотрели наверх, на совершенно сухие краны, — обещанную воду все никак не пускали, а когда невидимые им люди в газовых масках вбросили сверху в «душевую» какие-то зеленоватые пористые кристаллы, жить им оставалось всего несколько минут, — правда, очень мучительных. Этот незримый, без цвета и запаха, газ — Циклон Б[38] не знал жалости: перекрывая (буквально) человеческим тканям кислород, пары синильной кислоты начинали свое действие с невыносимой горечи во рту, затем царапали горло, сжимали грудину, вызывая головную боль, рвоту, судороги и одышку. Так что можно было только позавидовать тем, кто оказывался ближе всего к упавшим сверху кристаллам — вслед за короткими судорогами счастливчик терял сознание и уже не чувствовал, как наступал паралич всей дыхательной системы! Искореженные страданием, вцепившиеся друг в друга, окровавленные и перепачканные испражнениями трупы извлекали, грузили на вагонетки и сбрасывали в огромные и никогда не остывавшие ямы-костры… Не забыв, разумеется, перед тем заглянуть им в рот и вырвать золотые зубы, а у женщин — еще и выдрать сережки и срезать волосы.
…Отныне в живых из всей семьи оставался только он один — Залман Градовский, человек из правой шеренги[39]. Крепкий и здоровый, он был нужен рейху пока живым.
Всю их шеренгу пешком отконвоировали в Биркенау, в гигантский новый лагерь, расположенный в нескольких километрах от старого. Там их ожидали «формальности»: регистрация в 20-м блоке (для чего всех отобранных на рампе заставили выстроиться по алфавиту) и получение номеров, затем — в так называемой сауне — татуирование номеров, состригание волос, душ и полная перемена одежды и обуви, и уже после этого — ночевка в холодном 9-м блоке[40].
На следующий день поздно вечером — еще одна селекция и, как оказалось, это был отбор в «зондеркоммандо»: из их партии взяли от 80 до 100 человек (а всего в новую «зондеркоммандо» — около 450 человек). Всех разместили во 2-м блоке[41] — вместе с остававшимися в живых старожилами «зондеркоммандо». А утром 10 декабря, то есть фактически без соблюдения трехнедельного карантина, конвоиры-эсэсовцы с собаками уже выводили «новеньких» на работу…[42]
Итак, не спрашивая на то согласия, Градовскому «оказали доверие» и включили в лагерную «зондеркоммандо». Это была совершенно особая команда, почти сплошь состоящая из заключенных евреев и обслуживавшая весь конвейер смерти (только самое убийство немцы не могли доверить евреям и оставляли за собой). Именно члены «зондеркоммандо» извлекали трупы из газовен, сбрасывали их в костры или загружали в муфели крематориев, ворошили их пепел и хоронили, выкапывали и перезахоранивали бренный пепел сотен тысяч людей, убитых на этой фабрике смерти. Надо ли говорить, каким потрясением для Градовского и его товарищей было осознание их новой «профессии». Особенно угнетала, конечно же, их собственная роль в процессе убийства — их пусть навязанное, но все же принятое пособничество этому процессу.
Есть свидетельства того, что всякий раз, когда «работа» была сделана и «зондеры» возвращались в свой барак, Грановский, как, наверное, и многие другие, мысленно творил кадиш по душам усопших, а если обстоятельства позволяли, то доставал из укрытия талес, закутывался в него, надевал тфилин и читал кадиш уже по-настоящему, плача и всхлипывая. Оба кошмара — кошмар самого убийства и кошмар пособничества ему[43] — мучили и терзали Градовского, в конечном счете, пополнившись мотивом малодушия (см. раздел «Расставание»), стали основным моральным стержнем его повествования. Кажется, он был чуть ли не первым из числа тех, кого впоследствии огульно будут считать и даже называть коллаборантами, кто сформулировал для себя эту умопомрачающую проблему и кто заговорил о ней сам. Этому посвящены, быть может, самые потрясающие строки в его записках.
Замаранный этой «работой», он истово мечтал или о самоубийстве, на которое не оказался способен, или о восстании, которое кровью смоет этот и другие грехи — его собственные и всех остальных[44]. И, наверное, он был в этих мучительных мыслях не одинок. Члены «зондеркоммандо» хорошо себе представляли, что и как здесь происходит, и никаких иллюзий относительно собственного будущего ни у кого из них тоже не было. Так что не случайно именно в их среде вызрело и 7 октября 1944 года — на пятый день праздника Суккот — вспыхнуло беспрецедентное в своем роде восстание в главном лагере смерти — в Биркенау, где денно и нощно горели четыре из пяти аушвицких крематориев.
Символический смысл восстания понятен, но был ли еще и практический? Казалось бы, зачем был нужен этот обреченный на неуспех бунт, все участники и даже тайные помощники которого все равно наверняка будут убиты или казнены? Один из ответов на этот вопрос дает сам Градовский в своих записках. В его голове не укладывалось: почему так бездействуют союзники? Почему с юга, с американских аэродромов в Италии, или тем более с востока (начиная с июля 1944 года Красная Армия стояла всего в 90 км от знаменитой брамы[45] с пресловутой сентенцией![46]) — почему же не прилетают американские или советские самолеты и не бомбят эти печи и эти газовни, этот не знающий передышек конвейер смерти с суточной производительностью около четырех с половиной тысяч мертвецов?[47] Почему?