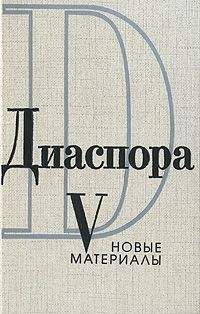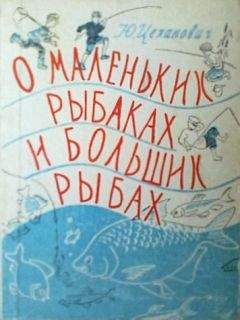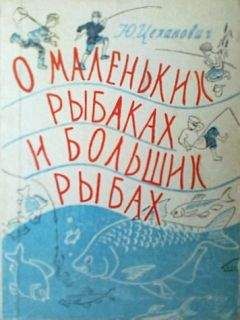От всего этого к горлу комком подступала тошнота, хотелось убежать и расплакаться, и не было никакого выхода. Но Константинов поднял руку и сказал:
- Стоп! Прекратим разговоры на печальные темы, Кто хочет мороженого?
И сразу в зале поднялся дикий шум и выкрики, и оркестр начал играть какой-то торжественный марш. И сквозь дым и туман стало видно, как все сидящие поднимаются и все как один смотрят на столик "Джигита".
Но одним из первых вскочил на ноги Константинов.
- Прошу встать. Это их национальный марш, Бьернборгский. - И, когда встали остальные, вполголоса пробормотал:- Политическая демонстрация по нашему адресу. Ладно, я им тоже продемонстрирую.
Он первым зааплодировал, когда марш кончился, но, поаплодировав, вынул из кармана пистолет, положил его на стол и в наступившей полной тишине скомандовал оркестру:
- "Марсельезу"!
Два раза повторять свое приказание ему не пришлось, и зал быстро и исправно снова поднялся, Без восторга, конечно, но с полным уважением. Пистолет лежал у всех на виду.
- Что вы сделали? - ахнул Гакенфельт, - Она же революционная...
- Тихо! - ответил Константинов." - Это сейчас наш гимн. Другого у нас нет.
И они стояли навытяжку: Аренский, с глупой улыбкой, Гакенфельт, бледный и растерянный, Нестеров, о неожиданным светом в глазах, и торжественный Константинов. И в зале гремела широкая песня, придуманная совсем не ими.
5
Вечером вышли из дока и сразу стали под угол к борту транспорта "Мыслете". Потом перетянулись к стенке и всю ночь грузили боевой запас. Утром должны были выходить.
Над морем висела мгла, и в бледном свете июньской ночи лица людей казались серыми пятнами. Смертельно хотелось спать.
Угольная пыль была везде. Смешанная с сыростью, она осаждалась на палубе и надстройках, облипала лицо, Лезла в волосы и хрустела на зубах. От нее можно было взбеситься.
У баркаса, везшего торпеды, вдруг испортился мотор, И - он добрых полчаса проболтался тут же рядом, в нескольких десятках саженей от миноносца. И не было никакой физической возможности ему помочь. Обещанный штабом минный унтер-офицер все еще не явился, и, как назло, исполнявший его обязанности минер Сухоносов при приемке торпед на борт сильно поранил себе руку.
Наконец все-таки торпеды были введены в аппараты.
Нужно было сразу взяться за их накачку, но тут прибыли из порта противолодочные бомбы, и на все дела не хватало рук.
Помыться Бахметьеву удалось около шести часов утра. Ложиться спать все равно было поздно, а потому он вышел в кают-компанию, сел за стол и налил себе стакан остывшего чая.
В углу дивана, сложив руки на животе, дремал старший механик Нестеров. Ему тоже досталось в эту ночь. Впрочем, и остальным было нелегко. Гакенфельт до сих пор разгуливал по палубе и руководил окончательной приборкой. Он, конечно, был неприятной личностью, но тем не менее отличным служакой. Здорово понял команду.
Кстати, он любопытно рассуждал. Говорил: чем больше дела, тем меньше всякой политики. Почему сейчас на миноносцах полная налаженность, а на больших кораблях черт знает что? Просто потому, что миноносцы плавают, а большие корабли торчат в гаванях. А в море, батюшка мой, революция или не революция, но команда все равно миленькая, потому что знает: без нас ей не вернуться домой.
И еще: дайте мне волю - я их от всех разговоров отучу. Будут у меня уважаемые свободные граждане опять на задних лапках бегать, а я на них плевать буду.
Это, однако, было уже не столько любопытно, сколько противно. Это была та самая пакость, которая разложила старую Россию. Нет, все-таки Гакенфельт был гнусным типом.
Сахар в стакане не растворялся. Пришлось съесть его просто так, а от этого снова захотелось пить. Бахметьев взялся за чайник, но, кроме разваренных чаинок, в нем почти ничего не оказалось.
Вообще с жизнью получалась какая-то сплошная чепуха. Надя приезжала с поездом восемь тридцать, а ровно в восемь миноносец снимался и уходил в Рижский залив.
Было чрезвычайно мало шансов снова попасть в Гельсингфорс раньше чем через два месяца, и все эти два месяца Надя должна была провести в полном одиночестве.
А возвращаться ей в Питер никак не годилось. Ее мать не могла ей простить всей истории с ее замужеством и теперь грызла ее с утра до вечера.
Хорошо еще, выручил товарищ по выпуску, барон Штейнгель. Обещал Надю встретить и отвезти на -квартиру. К сожалению, совсем не на ту, о которой мечталось. В городе свободных квартир вовсе не было, и пришлось удовлетвориться не слишком удобной комнаткой у какой-то старой девы с громкой шведской фамилией.
К тому же проклятая старая дева согласилась их впустить только потому, что у них не было детей. Тоже казус. Ведь в самое ближайшее время она должна была заметить, что Надя готовится стать матерью. Что тогда?
Впрочем, Штейнгель обещал впоследствии подыскать что-либо более подходящее, а он был мужчиной надежным,
И чрезвычайно ловко делал карьеру. Прямо из корпуса попал в штаб минной дивизии каким-то самым последним флаг-офицером, но уже пользовался расположением начальства и имел вид солидный и деловой.
Нет, начинать службу нужно было не в штабе, а, конечно, в строю. На корабле совсем другие люди и другое отношение к делу.
Он был очень счастлив, что попал на миноносец, и все его судовые дела обстояли превосходно. Торпеды лежали в аппаратах, накачанные воздухом до полного давления. Бублик значительно сократился и стал совсем неплохим работником, а тараканий порошок, закупленный в достаточном количестве, действовал без отказа.
Тараканы, большие и маленькие, черные и рыжие, вдруг бросились врассыпную с буфета на пол, а потом по трапу на верхнюю палубу и с палубы через сходню прямо на берег.
Когда крысы покидают корабль, корабль непременно тонет, но тараканов эта примета не касается. Тараканы - просто мразь. Пусть они убираются ко всем чертям.
- Правильно, - подтвердил Константинов, а он был великолепным человеком и все знал. - Первую за дам! - И рукой со скрюченными пальцами разогнал тучу синего дыма.
Кают-компания уже стала залом "Берса", и бледный Гакенфельт улыбался недоброй улыбкой. Нужно было встать и ударить его по лицу, но в ногах страшная тяжесть и руки не отрывались от стола. И Степа Овцын (почему Степа, которого он не видал с самого выпуска?) схватил его за плечо и тряс изо всей силы:
- Василий! Вася!
Как ни странно, но это в самом деле оказался Овцын, веселый и улыбающийся, в фуражке и с плащом, перекинутым через руку. Он стоял совсем рядом, и на его животе нестерпимо ярким пятном горел солнечный луч из иллюминатора.