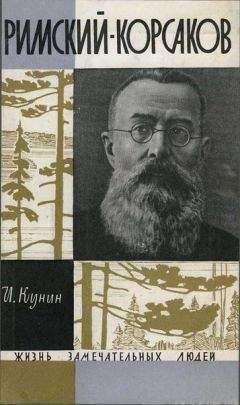Отца похоронили в Тихвинском большом Мужском монастыре. На другой после похорон день брат мой уехал с матерью в Петербург, а на следующий день уехал и я с дядей.
Воин Андреевич с января 1862 года состоял директором Морского училища. Со времени переезда в Петербург мать и дядя Петр Петрович стали жить у него, а я стал проводить у него воскресные дни. До этого времени, по смерти П.Н.Головина, я проводил праздники у сестры Головина —Прасковьи Николаевны Новиковой, с которой часто игрывал в 4 руки.
Выпуск мой в гардемарины состоялся 8 апреля 1862 года. Тогдашнее звание гардемарина получалось по окончании училищного курса. Гардемарины были свободные люди; офицерский чин получался после двухлетней службы гардемарином. Гардемарин был нечто среднее между воспитанником и офицером и производился в офицеры после некоторого практического экзамена. Гардемарин обыкновенно назначался в двухлетнее плавание для практики. И мне предстояло такое назначение. Плавание мое долженствовало совершиться на клипере «Алмаз» под командой П.А.Зеленого[28]. Клипер был назначен в заграничное плавание. Мне предстояло двух-трехлетнее путешествие, разлука с Балакиревым и другими музыкальными друзьями и полное отлучение от музыки. Не хотелось мне за границу. Сойдясь с балакиревским кружком, я стал мечтать о музыкальной дороге; я был ободрен и направлен кружком на эту дорогу. В то время я уже действительно страстно любил музыку.
Балакирев был сильно огорчен моим предстоящим отъездом и хотел хлопотать, чтобы меня избавили от плавания. Но это было немыслимо. Кюи, напротив, стоял за то, чтобы я не отказывался от первых служебных шагов ввиду моей молодости, говоря, что гораздо практичнее идти в плавание, получить офицерский чин, а что через два или три года видно будет, что надо делать. Воин Андреевич требовал от меня службы и плавания. Те начатки сочинения, которые были у меня в то время, казались ему недостаточными для того, чтобы рискнуть на первых же порах бросить карьеру моряка. Моя фортепианная и фа была настолько далека от виртуозности, что и с этой стороны я не представлялся ему как обладающий призванием к искусству со сколько-нибудь блестящей будущностью. Он был тысячу раз прав, смотря на меня как на дилетанта: я и был таковым[29].
Моя карьера в глазах родителей. Мои музыкальные учителя. М.А.Балакирев как учитель композиции и глава кружка. Прочие члены балакиревского кружка в начале шестидесятых годов и отношение к ним учителя и главы. А.С.Гуссаковский, Ц.А.Кюи, М.П.Мусоргский и я. Ле-то 1862 г. Направление и дух в Морском училище и во флоте в мое время. Отплытие за границу.
Родители мои, принадлежа к старой дворянской семье, будучи людьми 20-30-х годов, мало соприкасаясь с литературно-художественными деятелями их времени, естественным образом были далеки от мысли сделать из меня музыканта. Отец был заслуженный волынский губернатор в отставке; мать выросла в Орловской губернии в семье помещиков Скарятиных, всю свою молодость провела в обществе аристократов и заслуженных людей того времени. Дядя Николай Петрович был известный адмирал, директор Морского корпуса в 40-х годах и любимец императора Николая. Как бы в подражание ему, брат мой отдан был в морскую службу и сделался действительно отличным моряком. Естественно, что и меня прочили в моряки, тем более что я, увлекаясь письмами брата из заграничного плавания и чтением путешествий, и сам не уклонялся от предназначаемой мне дороги. В глухом Тихвине решительно не было настоящей музыки, и даже никто не заезжал давать концерты. Но когда, тем не менее, мои музыкальные способности и склонности проявились, то родители стали учить меня на фортепиано с помощью лучших сил, имевшихся налицо в Тихвине. Действительно, Ольга Никитишна и Ольга Феликсовна Фель, о которых я упоминал уже, были лучшие пианистки в нашем городе, лучшие потому, что других не было. Итак, родители мои сделали для меня в то время все, что могли сделать. Но учительницы не сумели развить во мне настоящих зачатков пианизма; играл я недурно, но до чего-нибудь серьезного и выходящего из ряда по этой части было далеко, а потому и ясно, что в умах родителей моих не могла рисоваться будущность их сына как музыканта. Будучи затем в Морском училище и учась у Улиха, я мог упражняться на фортепиано лишь по субботам и воскресеньям. Разумеется, и тогда успехи мои были не велики. Улих, не будучи настоящим пианистом, не мог мне дать хорошей постановки руки, а развить хотя бы неправильную технику недоставало времени, недоставало и охоты и принудительных или поощрительных мер. Музыку мог я полюбить настоящим образом, конечно, лишь в Петербурге, где я впервые услыхал настоящую музыку, настоящим образом исполняемую, хотя бы в виде «Индры» или «Лучии» в оперных театрах. Действительная же любовь к искусству у меня началась со знакомства с «Русланом», как я уже говорил это на предыдущих страницах моих воспоминаний. Первым настоящим музыкантом и виртуозом, с которым я сошелся, был Канилле. Я глубоко благодарен ему за направление моего вкуса и за общее первоначальное развитие моих сочинительских способностей. Но то, что он мало обратил внимания на мою фортепианную технику и не дал мне правильной гармонической и контрапунктической подготовки, — я всегда поставлю ему в упрек. Занятия гармонизацией хоралов, которые он мне предложил, вскоре были брошены, ибо, делая Некоторые поправки в моих писаниях, он мне не мог указать первоначальных приемов гармонизации, и я, делая свои задачи ощупью и путаясь в них, получил к ним лишь отвращение. Занимаясь у Канилле, я не знал даже названий главных аккордов, а между тем тщился сочинять какие-то ноктюрны, вариации и т. п. Попытки свои в сочинении тщательно скрывал от брата и Головиных и показывал только Канилле. Я был воспитанник-дилетант, немного играющий на фортепиано и царапающий что-то на нотной бумаге; однако моя любовь к музыке росла, и вот я наконец попал к Балакиреву.
После дилетантских по технике, но музыкальных и серьезных по отношению к стилю и вкусу попыток меня прямо сажают за сочинение симфонии. Балакирев, не только никогда не проходивший никакого систематического курса гармонии и контрапункта, но даже и поверхностно не занимавшийся этим, не признавал, по-видимому, в таких занятиях никакой нужды. Благодаря своему самобытному таланту и пианизму, благодаря музыкальной среде, встреченной им в доме Улыбышева, у которого был домашний оркестр, под дирижерством Балакирева разыгрывавший бетховенские симфонии, он как-то сразу сформировался в настоящего практического музыканта. Отличный пианист, превосходный чтец нот, прекрасный импровизатор, от природы одаренный чувством правильной гармонии и голосоведения, он обладал частью самородной, частью приобретенной путем практики на собственных попытках сочинительской техникой. У него были и контрапункт, и чувство формы, и знания по оркестровке —словом, было все, что требовалось для композитора. И все это —путем громадной музыкальной начитанности, с помощью необыкновенной, острой и продолжительной памяти, так много значащей для того, чтобы разобраться критически в музыкальной литературе. А критик, именно технический критик, он был удивительный. Он сразу чувствовал техническую недоделанность или погрешность, он сразу схватывал недостаток формы. Когда я или, впоследствии, другие неопытные молодые люди играли ему свои сочинительские попытки, он мгновенно схватывал все недостатки формы, модуляции и т. п. и тотчас, садясь за фортепиано, импровизировал, показывая, как следует исправить или переделать сочинение. При своем деспотическом характере он требовал, чтобы данное сочинение переделывалось точь-в-точь так, как он указывал, и часто целые куски в чужих сочинениях принадлежали ему, а не настоящим авторам. Его слушались беспрекословно, ибо обаяние его личности было страшно велико. Молодой, с чудесными подвижными, огненными глазами, с красивой бородой, говорящий решительно, авторитетно и прямо, каждую минуту готовый к прекрасной импровизации за фортепиано, помнящий каждый известный ему такт, запоминающий мгновенно играемые ему сочинения, он должен был производить это обаяние, как никто другой. Ценя малейший признак таланта в другом, он не мог, однако, не чувствовать своей высоты над ним, и этот другой тоже чувствовал его превосходство над собою. Влияние его на окружающих было безгранично и похоже на какую-то магнетическую или спиритическую силу. Но при своем природном уме и блестящих способностях он не понимал одного: что хорошо было для него в деле музыкального воспитания, то совсем не годилось для других, ибо эти другие не только выросли при иных обстоятельствах, чем он, но были совершенно другими натурами и развитие их талантов должно было совершаться в иные сроки и иным образом. Сверх того, он деспотически требовал, чтобы вкусы его учеников в точности сходились с его вкусами. Малейшее уклонение от направления его вкуса жестоко порицалось им; с помощью насмешки, сыгранной им пародии или карикатуры унижалось то, что не соответствовало его вкусу в данную минуту, — и ученик краснел за высказанное свое мнение и навсегда или надолго от него отрекался.