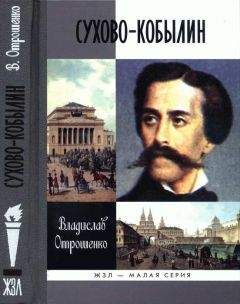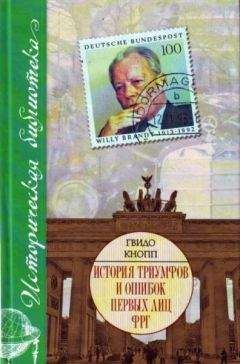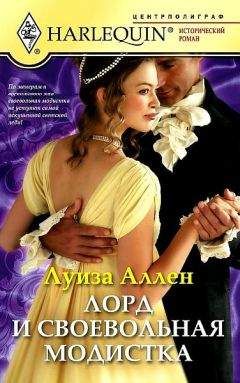— Я писал «Свадьбу Кречинского», — говорил он в интервью корреспонденту «Нового времени» Юрию Беляеву, — и всё время вспоминал парижские театры, водевили, Буффе.
И сам удивлялся:
— Каким образом я мог писать эту комедию, стоя под убийственным обвинением и требованием взятки в пятьдесят тысяч, я не знаю, но знаю, что написал Кречинского в тюрьме, на гауптвахте у Воскресенских ворот.
Здесь надо заметить, что с тех пор как в желудке статского советника Лебедева канул злополучный билет Опекунского совета, сумма требуемой взятки неуклонно возрастала: частный пристав Редькин запросил уже 20 тысяч, а следователь Троицкий — 30. Когда же задело взялись «особые», «тайные» и «чрезвычайные» следственные комиссии, с Александра Васильевича потребовали 50 тысяч. Но он не дал. Тогда он еще не постиг горькую мудрость, которую озвучил потом устами Кречинского, писавшего помещику Муромскому:
С Вас хотят взять взятку — дайте; последствия Вашего отказа могут быть жестоки… Откупитесь! Ради бога, откупитесь. С Вас хотят взять деньги — дайте! С Вас их будут драть — давайте!
«Дело», действие первое, явление I— А в тюрьме было превесело, — говорил Александр Васильевич журналистам, будучи уже восьмидесятилетним стариком, — доказательством вам то, что там я написал лучшие сцены Кречинского.
Эти дни, проведенные с Луизой в парижских театрах, были счастливейшими днями его жизни, судя по тому, что он вспоминал их в тяжкие месяцы ареста, в ожидании страшного приговора, в тюрьме «об стену с ворами», где было не так уж весело, как это казалось спустя сорок с лишним лет. Его дневники и письма начала 1850-х годов наполнены скорбью и отчаянием.
Подошло время уезжать из Парижа. В России ждали неотложные дела, нужно было устраивать имения, вникать в управление выксунскими заводами. Александру Васильевичу грустно было расставаться с Луизой. В последний вечер перед отъездом он говорил ей:
— Приезжайте в Россию. Я помогу вам найти отличное место. Я дам вам рекомендацию к лучшей портнихе в Москве. Приезжайте… я буду вас ждать.
Он тут же написал рекомендательное письмо госпоже Мене, приложил к нему тысячу франков «на дорожные издержки», попрощался, сел в экипаж и уехал, сожалея, впрочем, что не уговорил Луизу ехать в Москву сейчас же, вместе с ним.
После жизни в Париже я продолжал светскую жизнь до жестокого дня 7 ноября 1850 года. Это была жестокая точка поворота меня в меня самого.
А. В. Сухово-Кобылин. Черновик автобиографии
Вернувшись в Россию, Александр Васильевич нашел в полном здравии своих прежних друзей, известных всей Москве донжуанов, игроков и авантюристов, среди которых были князь Лев Гагарин и двоюродный брат Герцена Николай Голохвастов. Играя ночи напролет, они уже успели разорить свои имения, сделать многотысячные долги, заложить ростовщикам фамильные бриллианты и снова разбогатеть на счастливой карте. Они с легкостью проматывали в три дня состояния, женились на богатых купчихах, чтобы на следующий день прокутить в столице всё их приданое, делали предложения французским актрисам и, пользуясь их незнанием православных обрядов, заказывали вместо венчания панихиду, после чего счастливые француженки считали себя законными женами русских князей.
Как и в прежние университетские годы, Александр Васильевич, окруженный этими повесами, с удовольствием расточал время на светских раутах, за карточным столом, на ипподромах и в доме Голохвастова, где устраивались шумные обеды, балы, спектакли и ночные кутежи, на которых, как пишет Герцен, «вино лилось и музыка гремела».
В светской жизни Сухово-Кобылин блистал и добивался успеха, как и во всём, за что бы он ни брался. В 1842 году он стал лучшим жокеем России, выиграв на первой «джентльменской» скачке в Москве главный приз: обогнал дотоле непобедимого петербургского жокея Демидова, который был настолько уверен в успехе, что перед скачкой зашел в судейскую беседку узнать, кто поднесет ему приз. Кобылин оставил его позади на полкруга. «Выигрыш первого ездока-охотника из дворян, — писали газеты, — был приветствован обществом и публикой восторженно». В честь этого события на всех ипподромах России был учрежден приз имени Сухово-Кобылина, а какой-то французский художник изобразил победителя на акварельном портрете: в щегольской жилетке, узких панталонах и жокейской кепке он скачет на красивом гнедом жеребце по финишной прямой; взгляд у «ездока-охотника» злой и сосредоточенный. Портретик этот много лет кочевал по страницам всевозможных охотничьих журналов и газет Москвы, Петербурга и Парижа.
Впоследствии Сухово-Кобылин завел в своем имении конезаводы, которые смог поставить так, что они считались лучшими в России. Его лошади выигрывали призы на крупнейших ристалищах Европы.
В письме Муромскому («Дело») Кречинский говорит: «Может, и случалось мне обыгрывать проматывающегося купчика или блудно расточающего родовое имение дворянина, но детей я не трогал, сонных не резал…» (По одной из версий следствия, Деманш была зарезана сонной в постели.)
Случалось и Александру Васильевичу обыгрывать дворян и купчиков. Игроком он был отчаянным: играл не по мелочи — на деревни и вотчины. По свидетельству его крестьян, в карты он выиграл родовое имение графа Антонова деревню Захлебовку, которая находилась по соседству с тульской Кобылинкой. «Таким же образом барин приобрел еще часть земли у других помещиков», — вспоминали крестьяне.
Да, но вот «сонных не резал». Общественное же мнение единодушно утверждало — резал! И ссылалось при этом на «грехи его молодости», на купчиков и дворян, которым он действительно «резал горло» за ломберным столиком какой-нибудь счастливой картой.
От карт, ипподромов, фехтования и пикников Александра Васильевича отвлекали коммерческие занятия. Намереваясь поправить состояние семьи, частью потраченное им самим и его сестрами в заграничных поездках, частью пошатнувшееся стараниями эксцентричного деда, развеявшего сотни тысяч в театральных разгулах по Ардатовскому уезду, Александр Васильевич предпринимает поездку в Томск с целью приобрести там золотые прииски и начать новое дело.
«Может быть, именно это путешествие, — пишет он сестрам из Томска, — явится залогом нашего благоденствия».
Залогом благоденствия оно не явилось. В первой половине своей жизни до рокового перелома в ночь на Михайлов день 1850 года Сухово-Кобылин неохотно и неумело занимался хозяйственной и коммерческой деятельностью. Позднее, после трагических событий, резко переменивших его судьбу, он будет опьяняться работой, находить в ней радость, забвение и утешение. В 1850-х годах он с жаждой и горячностью станет набрасываться на всякое дело, с пылом возводить заводы, мельницы, лесопильни, винокурни, с упоением и воодушевлением говорить о них.