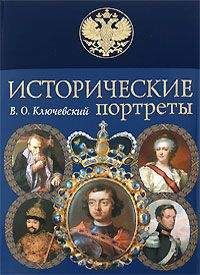Новиков объяснял такой успех журнала тем, что он пришелся по вкусу мещан, ибо, добавлял он, у нас те только книги четвертыми и пятыми изданиями печатаются, которые этим простосердечным людям, по незнанию ими чужестранных языков, нравятся. Всамом выборе чтения здесь можно было найти более просвещенного вкуса и любознательности: по словам Новикова, в числе любимых книг у мещан были «Синопсис», учебник русской истории, «Совершенное воспитание детей» и тому подобные книги, не пользовавшиеся никаким уважением просвещенных людей большого света.
«Имей душу, имей сердце», – проповедовала гуманная педагогика века, а это была прекрасная проповедь при бездушной школьной выучке и бессердечном вертопрашестве светской мысли. Но мало сказать доброе правило, надобно еще сотворить и научить, указать, как его исполнить, и подать пример исполнения. И в деле просвещения есть своя черновая часть. Сколько нужно понести пыли и грязи, чтобы вырастить хлебный злак? Современный сеятель просвещения, выходя на свою ниву, находит много готовых вспомогательных средств для своего дела. Не говоря о широко распространенном сознании пользы учения, внутренней потребности образования в значительной части общества, об обильном запасе учебной и образовательной литературы, достаточно вспомнить одовольно налаженном типографском и книгопродавческом деле.
Правда, в книжном деле у нас и теперь бывают прискорбные недоразумения. Так, нередко книга и читатель ищут друг друга и не находят, как будто играют друг с другом вжмурки с завязанными глазами; порой появляются книги, которых некому читать, и есть охотники чтения, которым нечего читать. Во времена Новикова таких недоразумений было несравненно больше, а вспомогательных средств просвещения гораздо меньше, даже совсем мало. В единственной тогда университетской столице просвещения было всего две книжные лавки, годовой оборот которых не превышал 10 тыс. рублей; в провинции книга была редкостью и продавалась втридорога, на что жаловался сам Новиков; издательское дело велось так вяло, что не поспевало за спросом читателей простонародных романов и повестей вроде «Бовы Королевича» или «Еруслана Лазаревича», и были отставные подьячие, кормившиеся перепиской таких произведений. Новиков видел, что надо начинать дело с самого начала, с черновых вспомогательных средств просвещения, и, надев рабочий передник, не побрезговал подойти к типографской саже истать за пыльным прилавком книжной лавки.
В обществе, где, по сознанию самого новиковского «Живописца», даже звание писателя считалось постыдным, надобно было иметь немалую долю решимости, чтобы стать типографщиком и книжным торговцем и даже видеть в этих занятиях свое патриотическое призвание. У Новикова с энергией и предприимчивостью соединялась та добросовестность мысли, которая побуждает выбирать себе дело по наличным силам, не преувеличивая своих сил по внушениям затейливого самомнения. Этим отчасти можно объяснить его нелюбовь действовать одиноко, без товарищей. Зато он глубоко верил в могущество совокупного труда и умел соединять людей для общей цели. Именно на поприще народного образования обнаружил он это уменье собирать раздробленные силы в большое дружное дело.
Московский кружок Новикова – явление, не повторившееся в истории русского просвещения. Можно радоваться, что такой кружок составился именно в Москве, где особенно трудно было ожидать его появления. Про эту столицу русского просвещения, единственный тогда университетский город в России, Сумароков, конечно, в припадке капризного раздражения, писал, что там все улицы вымощены невежеством «аршина на три толщиной». Правда, это был тогда город разнообразных крайностей. В его многочисленном дворянском обществе с довольно независимым, даже оппозиционным настроением, направляемым выброшенными из С.-Петербурга величиями, у которых прошлое было лучше будущего и которые потому бранили настоящее.
В обществе, где встречались носители всех перебывавших в России миросозерцаний от «Голубиной книги»[3] до «Системы природы» Гольбаха.[4] Так на одном и том же пиру за менуэтом иногда следовал доморощенный трепак, среди суетливого безделья и дарового довольства нашлось десятка два большею частью богатых или зажиточных и образованных людей, которые решились жертвовать своим досугом и своими средствами, чтобы содействовать заботам правительства о народном просвещении. Некоторые из этих людей стоят биографии и все – самого теплого воспоминания.
Из них рядом с Новиковым мне бы хотелось поставить прежде других И. В. Лопухина.[5] Чтение его записок доставляет глубокое внутреннее удовлетворение: как будто что-то проясняется в нашем XVIII в., когда всматриваешься в этого человека, который самым появлением своим обличает присутствие значительных нравственных сил, таившихся врусском образованном обществе того времени. С умом прямым, немного жестким идаже строптивым, но мягкосердечный и человеколюбивый, с тонким нравственным чувством, отвечавшим мягкому и тонкому складу его продолговатого лица, вечно сосредоточенный в работе над самим собой, он упорным упражнением умел лучшие и редкие движения души человеческой переработать в простые привычки или ежедневные потребности своего сердца. Читая его записки, невольно улыбаешься над его усилиями уверить читателя, что его любовь подавать милостыню – не добродетель, а природная страсть, нечто вроде охоты, спорта; с детства он привык любоваться удовольствием, какое поставлял другим, и для того нарочно проигрывал деньги крепостному мальчику, приставленному служить ему; во время его судейской службы в Уголовной палате, совестном суде и Сенате сделать неправду или не возражать против нее было для него то же, что взять в рот противное кушанье, – не добродетель, а случайность, каприз природы, вроде цвета волос. Все это очень напоминает красивую застенчивую женщину, которая краснеет от устремленных на нее пристальных взглядов и старается скрыть свое лицо, стыдясь собственной красоты как незаслуженного дара.
Мы, если не больше сочувствуем нашему высшему крепостническому обществу прошлого века, то лучше понимаем его, когда видим, что оно, если не помогло, то и не помешало воспитаться в его среде человеку, который, оставаясь барином и сторонником крепостного права, сберег в себе способность со слезами броситься в ноги своему крепостному слуге, которого он, больной, перед причащением, в припадке вспыльчивости только что разбранил за неисправность. И в то время не на каждом шагу встречалась привычка во всяком Петрушке искать человека и во всяком человеке находить ближнего. А по другую сторону Новикова надобно поставить И. Г. Шварца,[6] по выражению Новикова, немчика, с которым он, поговорив раз, на всю жизнь до самой его смерти сделался неразлучным. Откуда-то из Трансильвании попав домашним учителем в Могилев, а оттуда в Москву на профессорскую кафедру в университете, Шварц полюбил приютившую его чужбину, как не всегда любят и родину, и посвятил ей все еще молодые силы своего ума, весь жар своего горячего сердца. Восторженный и самоотверженный педагог до тончайшей фибры своего существа, неугомонный энтузиаст просвещения, вечно горевший, как неугасимый очаг, и успевший сжечь себя дотла в 33 года жизни.