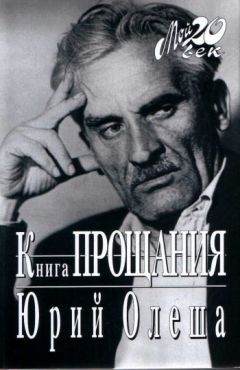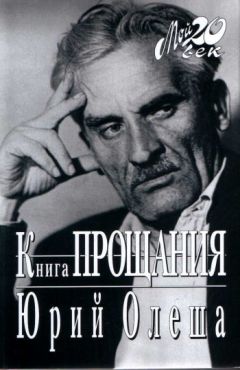«Еще понятны и легки…»
Еще понятны и легки
Слова, упавшие не в срок,
Вдали мелькнувший огонек,
Тепло мгновенное руки.
Еще — надейся и умножь
Внезапно вспыхнувшую дрожь.
И на лучах от фонаря
Еще ответная заря
Закату нежному верна,
Но рядом пенясь исчерна,
Над глуховатой темнотою,
Но рядом, за морской чертою,
За плеском плеск, за взлетом взлет
Ведут нездешней скуке счет.
Эти сумерки — черные с синим
И луна — неживая печать,
За фонарным расцветом павлиньим
Мне живого лица не узнать.
И приходится верить, что тайна
В огоньках, фонарях — белизной
На гранит и чугун не случайно
Разливается светлой луной.
Ей сегодня легко и нарядно
(Ах, зачем обрывается нить
Этим вечером смутным и чадным)
В металлических лужах светить.
Как в таком удержаться скольженьи?
(Синева, холодок, полет)
И каким запылал отраженьем
Электрической радуги взлет?
………………………………………
Ах, фонарики, — черные с синим
Ротой, в струнку — мучительный строй…
Здесь обряд ослепительных линий
Завершается мертвой луной.
«Часов отбиванье звучит, как отбой…»
Часов отбиванье звучит, как отбой
(Метаться ль нам дальше — куда и откуда?)
И взморьем, и синью, и нашей тоской
Сейчас завладеют луна и причуда.
Я знаю, я вижу — полуденный свет
За лунную тень отступает не сразу,
Но новый заоблачный, призрачный бред
Внезапно приближен на уровень глаза,
Всплывая в легчайший и радостный пух
В высокой волне напряженного света,
Пока возглашающий трижды петух
Зарвавшийся взлет не притянет к ответу.
«Скука выдуманного вокзала…»
Скука выдуманного вокзала.
За оградой скупо вянут розы,
В этой сказке будет для начала
Грохотавший, убегавший поезд.
Уходящим призраком печали
Лица, тени пролетали мимо,
Наплывая, снова повторяли,
Повторяли о неповторимом…
Ускользала пыльная дорога,
Но колеса истово стучали
Позади оставленной тревогой,
Той, что оставалась на вокзале
И в последний раз (в чаду, в дремоте)
На высокой, чистой, строгой ноте
Свист о несмолкающей заботе…
«Слепой переулок. Слепой огонек…»
Слепой переулок. Слепой огонек.
Четырнадцать вдоль — и пять поперек.
Пустынное небо под такт шагов —
Как черная песня без всяких слов.
Прохожий чудак под цветистым кольцом
Встречает чужим, не своим лицом.
— Ей, ей, до зари куда идти?
— Ей, ей, уголка веселей не найти.
Знакомый, большой и нестрашный дом
За темным, пустым, перебитым стеклом.
Слепой переулок — нестрашный — лег.
Четырнадцать вдоль и пять поперек.
«Этот сон невозможно понять…»
Этот сон невозможно понять,
Так докучливый шепот несносен.
Будут золотом листья сверкать
В безнадежно-прекрасную осень.
Будет в вихре коротком кружить
Золотая, невидная нить.
Этот сон невозможно понять —
Каждый сорванный лист, как печать,
Но, как нищий, обугленный лес
В бесконечную четкость небес…
И легчайшее кружево дней
Все бедней, все нежней…
О, короткое зарево дней
Над сгоревшею жизнью моей!
Может быть —
по снегу, в исступленьи
быстрый бег в проталинах полей
И последнее из считанных мгновений
верной гибели моей.
Может быть, — как миг, воспоминанье,
жаркий вздох и жадность до конца,
и светлей холодное сиянье
бледных звезд у мертвого лица.
Может быть —
труднее бег и тише,
свист, — дыхание и окровавлен рот,
что ни шаг — огромнее и выше
мой последний небосвод.
«Два огонька из двух орбит…»
Два огонька из двух орбит
Зовут войти. Садись и пей,
Играй и пей. Вино дробит
Огонь на тысячу огней.
«"Добрый вечер!" Глухой и замученный май…»
"Добрый вечер!" Глухой и замученный май
Пролетает веселый и звонкий трамвай…
И сегодня — опять
Из углов, из прорех
Веселее звенят
Приключенье и смех,
И на каждом углу,
Огоньками согрет,
Торопись,
Уходи
В синеватую мглу,
Запоздавший поэт.
Уходи в беспечальный поток,
Торопись и тревожь
Невеселую, темную дрожь
И высокий в груди холодок —
Чтобы летняя душная мгла
Величаво и мимо плыла…
Забывается день. Забывается зной.
Удлиняется тень по востоку,
Водворяется ночь неживой синевой,
Неживой синевой и далекой.
Поднимается влага от Красных песков,
Поднимается сердце — обманом,
Отрывается малым и бедным листком
От пустынной страницы Корана.
Уплывает земля. Раздвигается ночь,
Остановлено время в качаньи.
Только песня сжигается в ночь
На безводном и горьком отчаяньи.
Как бурнус, развевается звездный полет,
Под бурнусом раскинуты руки,
Только сердце араба плывет
И несет свою мертвую скуку,
В этой странной, пустой, неземной вышине
В этой лунной и призрачной дрожи —
Обрывается песнь на высокой струне,
Больше выдержать сердце не может.
«Четыре улицы — раскинутые руки…»