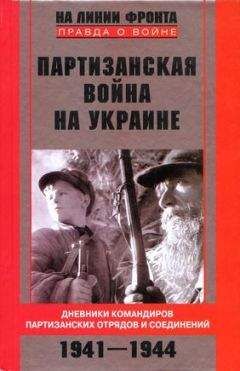Никто из стоящих в толпе не может постигнуть, как разместятся десятки тысяч на считанных узких переулках. Ведь это попросту невозможно! Глаза обшаривают все вокруг как бы в попытке найти ответ, и взгляд вдруг натыкается на узлы с вещами, тут же рядом, на булыжнике мостовой. Что это? Значит в гетто совсем не разрешают брать вещи? А возле узлов какие-то пятна, и глаз уже различает - кровь, а вокруг толпится городской сброд.
Но где же бывшие владельцы этих узлов? Те, кто горбился над ними? Кто увязывал их? Значит снова что-то стряслось. Над толпой разливается молчание. Издали видно, как литовцы загоняют евреев в гетто, как роются в их вещах. Слышно, как спрашивают, нет ли денег и золота.
И нам, нашей группе, которая пока еще стоит на противоположной стороне улицы в томительном ожидании, счастьем кажется тот момент, когда мы, наконец, вступим в гетто: уже нет сил видеть все это.
Через час нас загоняют в гетто. Никто не думает о том, что нас лишили свободы, изолировали от всего мира, отняли последние элементарные человеческие права. В голове пусто. Мы двигаемся через силу, механически, безучастные, равнодушные ко всему. Чувства притупились, желания исчезли. Мы - в переулке Страшунь. И снова оживают мозг и сердце. Что это? Эти сбившиеся в толпу люди с воспаленными глазами, все еще прикованными к воротам, - разве это реально? Какой-то массовый, грандиозный сумасшедший дом! Все куда-то протискиваются, толкаются, вопят, дико жестикулируют. Теперь, когда они все вместе, в этой куче, каждый со своей болью, своими страхами и отчаянием, люди судорожно цепляются за ближнего - рухнула плотина молчания. Здесь можно кричать, выть от тоски. И вопль одного рождает отклик в сердце другого, и все связаны одной участью. И уже возникает мысль о других, о тех, кого еще не пригнали в гетто. Тревожное ожидание на всех лицах, со всех сторон вопросы: откуда вы? С какой улицы? Не с Макова ли? Кто видел людей с Звириниц?..
Уже второй день мы в гетто, но нет евреев с улиц Понарской, Макова, Венглова, Звириницы. Напрасно расспрашивают люди о знакомых и родственниках, проживающих там. Их нет. Они отправлены в Лукишки. Целыми улицами, подчистую.
Так судьбу человека решал случай. А судьба других оказалась предрешена тем, где они поселились в первые минуты пребывания в гетто, в каком именно дворе сложили свои отрепья и в каком именно углу устроились на полу на ночлег.
Немцы включили в границы гетто улицу Страшунь, часть Рудницкой, Шпитальной, Шавельской, Деснянской, Ятковой и Лидский переулок. На этих жалких улицах должны были поместиться тридцать тысяч евреев. И в первую же ночь, когда усталые, разбитые люди, втиснувшись в каждую щель, в малейшее свободное пространство какого-нибудь двора, забылись тяжелым, как в лихорадке, сном, гетто в первый раз навестили немцы.
Они вошли в Лидский переулок и объявили, что все, кто находятся здесь, должны встать и идти с ними: внезапно переулок был исключен из пределов гетто.
Люди спасались, прятались, прокрадывались на другие улицы. В ночных потемках теряли друг друга, принимались голосить. Те, кому посчастливилось прорваться и очутиться на спасительных улицах Страшунь и Шавельской, сохранили себе жизнь. Однако большинство находившихся в Лидском переулке было депортировано в Лукишки. Из них спаслись единицы, выкупленные за бешеные взятки деньгами и золотом. Остальных увезли в направлении Понар.
В ночь на 7 сентября было депортировано шесть тысяч евреев - из тех, кого гнали в гетто, и из тех, кто оказался в Лидском переулке.
Так началась история Первого гетто.
Первого, потому что было еще и Второе.
В какое из них человек попал, поначалу зависело от чистой случайности: прежнего местожительства и слепой воли литовских полицейских. Кто же в эту кошмарную первую ночь мог предвидеть, какие различия со временем выявятся между этими двумя гетто и как скажется это на судьбе людей?
Жизнь нашей небольшой группы, хотя и полна того же ужаса и лишений, отличается от жизни других людей, потому что мы - другие. Мы втоптаны в грязь, как и все; мы существуем без малейшей уверенности в завтрашнем дне, как все; мы кожей ощущаем топор, занесенный над нашими головами, как все; и, тем не менее - мы другие. Это различие проявляется во всем: в ощущении связывающей нас общности, во взаимной заботе и поддержке.
Большинство наших находится здесь, в Первом гетто, но на Рудницкой и на Понарской, откуда всех вывезли в Лукишки, тоже находились наши товарищи. Что с ними?
На третий день существования гетто прошел слух, будто немцы освобождают евреев из Лукишек. И вот уже толпы людей повалили на улицу Рудницкую, где находятся ворота, запрудило - не протолкаться. Я тоже протискиваюсь среди взбудораженных, измученных тревогами людей. Толкаюсь в толпе, охваченная ожиданием, с единой сверлящей мыслью: увидеть Енту! Может, правда освобождают. Она жила на Понарской. Я видела ее за день до ухода в гетто. Она беременна, уже на сносях. Мужа увели немцы. Может, выпустят?..
Улица застыла в неестественном безмолвии. Напряжение так велико, что похоже - еще минута, и это окаменелое молчание лопнет и взорвется неудержимым воплем. Ожидание бесконечно.
И когда оно уже потеряло смысл, заскрипели ворота. Вернулись! Вернулись из Лукишек! Толпу будто током ударило. Закричали, заголосили, со слезами, со смехом кинулись к возвращающимся. Подняли, подхватили на руки. Они обмирают, ноги не держат их, похожих больше на тени, чем на живых людей.
Но это - единственные вернувшиеся.
Немцы отпустили одну эту горсточку. Всех остальных утром увезли в направлении Понар. И хотя уже ясно, что никто больше не вернется, мы продолжаем ждать. Я ищу Енту, с надеждой и страхом впиваясь в каждое новое лицо. Кажется, вот-вот я ее заметила. Но она не вернулась. От пришедших из Лукишек я узнала впоследствии, что у одной из молодых женщин в тюрьме начались роды, она страшно кричала, а немцы издевались над ней. Значит, ее отправили с остальными.
Перед моим мысленным взором встал образ Енты Либгауэр. Живые, блестящие глаза, лучащиеся умом и преданностью. И ее пение. Я отчетливо слышу ее чудесный низкий голос и завораживающее звучание иврита в песне, которая часто пелась в киббуце и которую мы сосредоточенно слушали, погруженные в мысли и видения будущего.
Ента была одной из многих. Она перешла границу, прорвалась в Вильнюс с мечтой о свободе, об Эрец-Исраэль. Она верила, что такой человек, как она, которому не занимать мужества и который знает, чего хочет, непременно своего добьется. Она погибла на самом пороге жизни.
Потеря каждого близкого человека отзывалась в сердце глубокой болью, и именно этой болью питалась тогда душа. И если б не существовало этой связи между живыми и мертвыми, если бы не ощущали мы, что приняли их немой завет, жизнь наша потеряла бы всякий смысл.