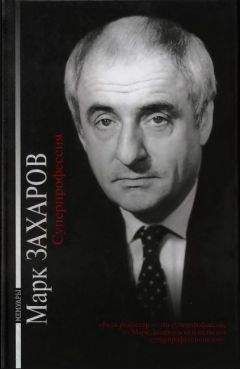Конечно, мы осмотрели все достопримечательности Парижа, посетили все музеи, чтобы потом с чистой совестью ходить по магазинам и чувствовать себя интеллектуалами, которые иногда и снисходят до земных, чисто бытовых проблем. Мы побывали также на очень красочных и изобретательно поставленных шоу в эстрадных театрах «Фолибержер», «Мулен Руж», «Лидо». Нас поразило обилие лазеров, дымов, разного рода световых эффектов, богатых костюмов, живых слонов, дрессированных дельфинов, снимающих бюстгальтер с подводной дрессировщицы, прыгающих, на зависть Абдулову, прямо с потолка объятых пламенем каскадеров? обрушилось на нас и множество других ослепительных неожиданностей. Время было такое, что появление в центре хореографического вихря звезды с обнаженной грудью вызывало всеобщее волнение и ощущение того, что не зря съездили в Париж.
Кто бы мог подумать, что очень скоро появление московской топ модели на подиуме в лифчике будет вызывать законное недоумение.
Почти везде в Париже нам было интересно, неинтересно было только в парижских театрах. Раза три-четыре ходили мы смотреть спектакли, которые наши французские друзья рекомендовали посмотреть как наиболее интересные, и каждый раз уходили в антракте. Дружно и не сговариваясь. Правда, в период нашего пребывания во французской столице не работал театр Питера Брука. Это существенно. И досадно.
Во время одного из таких малоудачных театральных походов посетила меня еще одна мысль. На этот раз патриотическая. Спектакль, который имеет неоспоримую ценность в Москве, вовсе не домашняя радость. Такой спектакль — объективная ценность современной театральной культуры. Сказал я об этом товарищам, и товарищи со мной согласились. У нас очень много людей, умеющих работать отлично, на уровне самых высоких мировых стандартов. Надо быть скромным, но не скромничать излишне.
Самое сильное мое впечатление во Франции — это посещение русского православного кладбища Сент-Женевьев-де-Буа, что в тридцати километрах от Парижа.
Сравнительно небольшое пространство, ряды одинаковых прямоугольных плит с крестами или миниатюрными полутораметровыми моделями церковных маковок. Никакого соревнования по части изощренных надгробных монументов. Никаких увесистых калиток и оград с замками, собственными столами и скамейками. Царит дух сурового и вместе с тем заботливого посмертного равенства. В единстве умерших на чужбине заложена какая-то сильная идея, может быть, комплекс идей, в которых не так просто разобраться. Есть и свои немаловажные особенности: просьба не оставлять на могилах живые цветы. Это правило оборачивается в конечном счете определенным устойчивым настроением — на Сент-Женевьев-де-Буа нет никакого мусора, нет увядших, погибших растений, нет забытых, неухоженных могил с сухими стеблями бывших букетов. Не пахнет тленом. Нет кладбищенского сумрака. Деревьев не больше, чем следует. Пространство открыто небу. Очень чисто и опрятно. Настроение поначалу возникает отнюдь не кладбищенское. Но это лишь поначалу. Потом возникает не просто печаль, а нечто большее, что, возможно, не удастся мне до конца передать словами.
Кладбище — место, где на психику человека обрушивается лавина очень сильных и разнородных ощущений. Режиссер, наверное, обязан задумываться обо всем на свете, обязан он размышлять и о тех смутных ощущениях, что возникают порой в недрах его подсознания и незаметно до поры до времени существуют там в процессе какого-то тайного созидания. Что именно созидается в тайниках нашего разума, когда сам разум еще не контролирует подобный процесс, — загадочно. Вопрос притягательный и пока что неразрешимый, так же как не ясен, скажем, механизм сверхскоростных подсчетов астрономических цифр, что демонстрируют нам отдельные феномены на эстраде, не могущие толком объяснить, каким образом они совершают свои подсчеты. Такой подспудный загадочный процесс можно распознать мгновенным озарением, но можно и мучиться бесконечно от долгих и неясных предчувствий. На кладбище Сент-Женевьев-де-Буа я очень скоро начал испытывать нечто подобное.
Теперь все чаще нас посещают мысли о том, в какой сложной многообразной взаимосвязи пребываем мы в своем временном поселении на нашей маленькой планете, как витиевато переплетаются на ней судьбы живых и уже покинувших ее жителей. В каком странном взаимодействии противоборствующих идей и конкретных судеб формируется наша общая земная история. Похоже, что история наша, в том числе новейшая, фиксируется не единожды. Не сразу. Похоже, что формируется она медленно, не одним-единственным поколением очевидцев, формируется неторопливо, поэтапно, усилиями многих умов, и совсем не грех подключать временами к этому глобальному вселенскому осознанию и наш скромный театральный разум. Разум, располагающий собственными исходными данными, не столько фактологического, сколько психологического и эмоционального характера. Но ведь все человеческие эмоции — реальность вполне объективная, точнее — могущая таковой стать. Прозорливый писатель иногда видит дальше и глубже прозорливого историка А театральный сочинитель во многом сродни ответственному за свои мысли литератору. Будем надеяться, что наши театральные фантазии состоят не из одних только ошибок и малозначащих субъективных эмоций.
Волнение — слово в театральном мире истертое. Чуть что говорим: «с большим волнением», «извините, я очень волнуюсь» (оставаясь при этом предельно спокойным). Но здесь меня посетило Волнение. Истинное. Отчасти непонятное. И пытаясь его разгадать, не умея это сделать строго и просто, я в предыдущих абзацах своего писания достаточно пометался между космосом, земной историей, вечностью и вселенной. Как ни странно, но все эти высокие категории продолжают вращаться в моем сознании, когда я думаю о русских людях, похороненных под Парижем.
Отдельные участки кладбища — словно застывшая в своем печальном и торжественном безмолвии история Гражданской войны. Та самая история, которую изучал я когда-то в школе. Офицеры старой русской армии лежат во французской земле отдельными «боевыми» соединениями. Впервые в жизни я видел настоящую, не бутафорскую военную символику великой Российской державы. Знаки воинских образований, ведущих свою историю с петровских времен. Есть такие магические словосочетания: «Гвардейский Преображенский полк»… До этого мгновения я видел лишь их кинематографическую имитацию. Теперь передо мной была моя живая история, ставшая мертвой. Неужели это и есть то самое, что принято называть свалкой или кладбищем истории? Поспорить с этим не могу. Но очень хочется.