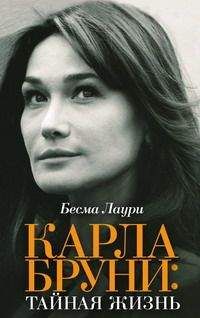К кому обращен призыв поэта сохранить его речь? Думается, что адресатом в первую очередь является русский язык, в который, как надеется автор стихотворения, его слово войдет навсегда, став неотъемлемой частью общей речи. Можно считать адресатом и народ, тут нет существенного противоречия, тем более что, по мнению Мандельштама, связь между языком и историческим бытием народа в России особенно тесна – язык является высшим проявлением народного духа: «Жизнь языка в русской исторической действительности перевешивает все другие факты полнотою бытия, представляющей только недостижимый предел для всех прочих явлений русской жизни. <…> Для России отпадением от истории, отлучением от царства исторической необходимости и преемственности, от свободы и целесообразности было бы отпадение от языка» («О природе слова»). И все же обращение к народу со словами «отец мой» и «мой друг» кажется менее вероятным, менее естественным, чем к языку. Не должно смущать, что язык – «помощник… грубый». Это «грубый», думается, – вовсе не отрицательная характеристика. Грубый – природный, необработанный, изначальный: живой, но необработанный материал. Как камень в скульптуре. Обозначена диалектика помощи и сопротивления языкового материала.
Слово «сладима» применительно к воде новгородских колодцев имеет в стихотворении, помимо значения «вкусная», и иное смысловое наполнение. В.И. Даль в своем словаре упоминает, наряду с другими значениями прилагательного «сладимый» («сладкий», «солодковатый», «услаждающий», «приятный», «располагающий к неге» и др.), также и ласкательное: «сладимый ты мой» – «милый», влекущий (близко к значению слова «любезный»). Новгородские колодцы стоят в стихотворении в одном ряду с петровскими казнями и по ассоциации заставляют вспомнить о разгроме северного вольного города Иваном Грозным; но колодезная вода должна быть чиста и глубока («черна»), чтобы отразить возвещающую надежду на спасение и вечную жизнь рождественскую звезду. «Сладима» рифмуется с «дыма» – это вода правды, живая вода с горьким привкусом «несчастья и дыма». Это вода, без которой нельзя жить, насущная, как хлеб. «Непризнанный брат» и «отщепенец» надеется, что его речь будет так же чиста и любезна народу (ср. пушкинское: «буду тем любезен я народу»), как жизненно-потребна, «сладима» чистая вода.
«Дремучие срубы» из второй строфы соответствуют, в определенной мере, новгородским колодцам из первой. Но какие, собственно, срубы имеются в виду? Д.И. Черашняя и И.З. Сурат обоснованно полагают, что речь идет о древнерусских ямах-тюрьмах, стены которых укреплялись бревнами. Д. Черашняя указала и источник мандельштамовского образа: «Житие протопопа Аввакума». Действительно, мы встречаем упоминание земляных тюрем у Аввакума: «После тово вскоре схватав Никон Даниила, в монастыре за Тверскими вороты, при царе остриг голову и, содрав однарятку, ругав отвел в Чюдов, в хлебню, и, муча много, сослал в Астрахань. Возложа на главу там ему венец тернов, в земляной тюрьме и уморили. <…> Посем привели нас к плахе и прочитали наказ: “Изволил-де государь и бояря приговорили, тебя, Аввакума, вместо смертные казни учинить струб в землю и, зделав окошко, давать хлеб и воду, а прочим товарищам резать без милости языки и сечь руки” [204] . <…> Таже осыпали нас землею. Струб в земле, и паки около земли другой струб, и паки около всех общая ограда за четырьми замками; стражие же десятеро с человеком стрежаху темницу» [205] . Однако возникает вопрос: зачем опускать князей в сруб на бадье? Проще использовать лестницу, а затем ее вынуть. Бадьи, как указано в словаре Даля, использовались для подъема воды из колодцев, руды из шахт. Да и зачем «татарве» содержать князей в тюрьме? Набегавшим на Русь кочевникам это не требовалось. Имело смысл убить или увести в полон, но никак не заниматься устройством земляных тюрем. Соединяя «срубы» и «бадью», Мандельштам создает некий сюрреалистический образ, в котором земляная тюрьма объединяется то ли с колодцем, то ли с шахтой. И здесь неизбежно возникает аналогия с убийством царской семьи, с теми страшными шахтами, в которые были сброшены члены дома Романовых. (Об этом писал О. Ронен.) «Татарва» здесь, конечно, – олицетворение низовой, оставшейся полуязыческой многонациональной России, которая «затерялась… в Мордве и Чуди» (Есенин) и чьи «очи татарские мечут огни» (Блок). В «татарве» воплощается двойственная по своей сути стихийная сила: в ней, с одной стороны, – залог жизненности народа, с другой – она по сути анархична, антикультурна и склонна к разрушению.
Увлеченный в юности эсеровско-народническими идеями, восходящими во многом к славянофилам, Мандельштам на всю жизнь сохранил представление о народной правде, которой нельзя изменить, которую надо принять, как бы страшно это временами ни казалось. Еще в 1913 году Мандельштам, напомним, писал: «Россия, ты – на камне и крови – / Участвовать в твоей железной каре / Хоть тяжестью меня благослови!» («Заснула чернь. Зияет площадь аркой…»); в 1918-м он, в полной мере сознавая трагизм происходившего, воскликнул: «О, солнце, судия, народ!» («Прославим, братья, сумерки свободы…») Так и в 1931 году в стихотворении «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма…» – в стихах, которые являются, в сущности, мольбой и клятвой, – речь идет о желании вхождения в «мы», в роевое историческое бытие народа. Жажда быть причастным русской народной судьбе выражена в образах амбивалентных, окрашенных почти в садомазохистские тона: обещание выстроить срубы-колодцы-шахты, в которых будут топить или иным образом уничтожать князей; готовность проходить всю жизнь «в железной рубахе» (образ, имеющий, вероятно, отношение к «одеянию» юродивых, чье тело было нередко увешано веригами и металлическими кольцами) и найти топорище для петровской казни (очевидно, для своей); заявлено стремление привлечь к себе любовь мерзлых плах (любовь плахи!). Роль поэта – не роль постороннего: войти своей речью в народную речь, быть неотделимо своим, до конца – вплоть до жертвенности, до самоуничтожения.
(Вообще обещание «построить такие дремучие срубы, / Чтобы в них татарва опускала князей на бадье» – это стихи страшные, может быть, самые страшные у Мандельштама. Принять действительность и трагическую русскую историю вплоть до оправдания казней, до оправдания «кремневого топора классовой борьбы»? До соучастия в казнях? Вообще это странные строки: дело ли поэта строить земляные срубы-тюрьмы? Это заявление полностью противоположно есенинским словам, которые так вознесены в «Четвертой прозе»: «Не расстреливал несчастных по темницам». И Мандельштам ведь не только не расстреливал, но напротив – спасал, это действительно так. Нелегко отделаться от чувства, что строки о «дремучих срубах» могли отозваться возмездием в самóй ужасной судьбе их автора: его тело было, видимо, брошено в лагерную братскую могилу-яму, если не сожжено в печи – так тоже, по свидетельству выживших, избавлялись в том лагере, где поэту довелось провести последние дни, от трупов умерших заключенных.)