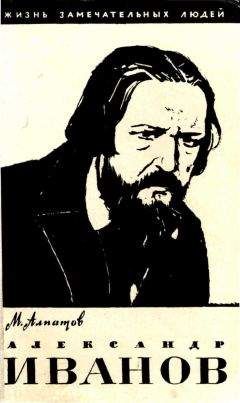В одном из номеров приведены были строки Рылеева:
Смотри — в волнении народы,
Смотри — в движеньи сонм царей!
В передовой статье сообщалось о потрясении, испытанном Россией, после которого трудно поверить, чтобы она вновь заснула «непробудным сном». В статье друга Герцена Н. И. Сазонова говорилось об историческом месте России и давался ответ на многие из тех вопросов, которые давно занимали художников. Читая знаменитое письмо Белинского к Гоголю но поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями», он с горечью должен был признать справедливость его негодования. Если тетрадки «Полярной звезды» действительно попали в руки Иванова, они должны были произвести на него действие, как открытое окно, через которое в студию художника потянуло свежим воздухом.
Все эти встречи, воспоминания, впечатления, раздумья привели Иванова к решению писать Герцену и просить свидания с ним. В письме Иванова каждое слово выношено и взвешено. Все оно в целом исполнено спокойной твердости и убежденности в важности задуманного дела.
«Следя за современными успехами, я не могу не заметить, что мое искусство живописи должно тоже получить новое направление, и, полагая, что нигде столько не могу зачерпнуть разъяснения мыслей моих, как в разговоре с вами, надеюсь, что вы мне не откажете в этом многополезном предприятии. Я решаюсь приехать в Лондон на неделю, что будет от 3 до 10 сентября. В художниках итальянских совсем не слышно стремления к каким-нибудь новым идеям в искусстве. Не говоря уже о теперешнем гнилом состоянии Рима, они в 1848 и 49 годах, когда во главе стоящая партия грозила до основания разрушить церкви, думали: как бы получить для церквей новые заказы. Такое противоречие рождает самый любопытный вопрос: как думает об этом Мадзини? Почему и просил бы вас покорнейше свести меня с ним во время пребывания моего в Лондоне, но подумав, однако ж, не будет ли это свидание иметь пагубные последствия для меня от римского правительства, которое, вероятно, вследствие последних потрясений, стоит на стороже всех его действий в самом Лондоне. Если, например, правительству вздумается вторгнуться в мою студию в Риме для рассмотра моих книг, с помощью которых я пробую созидать новый путь для моего искусства в эскизах, то они, разумеется, отберут от меня и то и другое, что будет моим смертельным нравственным ударом.
Удостойте ответом вас искренне уважающего
Александра Иванова».
В год, когда Иванов обратился к Герцену, Герцен был на подъеме своей революционной деятельности. Уже позади остались разочарования, испытанные после крушения революции 1848 года и повсеместного торжества непроглядно черной реакции. Герцен мужественно преодолел свое состояние, близкое к отчаянию. Его поддерживала вера в Россию, в русский народ, в его историческую миссию. С открытием лондонской типографии Герцен смог почувствовать под ногами твердую почву Деятельность его приобретала действенную силу, друзья из далекой России писали, какой отклик находило его печатное слово в самых глухих окраинах страны. Только в августе 1857 года он получил весть о том, что «недовольство всех классов растет… Какое-то тревожное ожидание тяготеет над всеми… Все признаки указывают в будущем на страшный катаклизм, хотя и невозможно представить, какую он примет форму и куда нас поведет». Эти сообщения укрепляли в нем уверенность в необходимости вести борьбу до конца. В 50-х годах к Герцену в Путней, где он жил, началось настоящее паломничество русских людей, оказавшихся за границей. Среди них были отставные военные и помещики, литераторы и студенты, люди из простонародья, молодые и старые — все они испытывали живую потребность побывать у Гериена, услышать его живое слово, а иногда и прямо внести свою лепту в его благородное дело. Недаром русский посол в Париже Киселев, визируя путешественникам паспорта для проезда в Лондон, спрашивал их: «А в Путней поедете?»
Прибыв в Лондон, Иванов поспешил разыскать загородный дом, который занимал Герцен со своей семьей и близкими ему людьми. Однако поскольку Герцен был в то время в отъезде, в Манчестере на Всемирной выставке, встреча художника с ним состоялась только через несколько дней. Герцен находился тогда под сильнейшим впечатлением только что увиденных в Манчестере шедевров старой живописи, извлеченных из дворцов английской знати и впервые показанных публике. Может быть, эти впечатления в Манчестере разбередили в нем потребность вновь взглянуть на лондонские шедевры. Может быть, он надеялся, что перед их лицом ему легче будет найти общий язык с художником. Во всяком случае, он предложил немедленно отправиться всем вместе в Лондонскую национальную галерею. И они отправились — он, Иванов, Огарев, случившийся тут же молодой литератор Гаевский и, вероятно, кое-кто из членов семьи. Хотя Герцен принимал гостя не у себя дома, он взял на себя роль гостеприимного хозяина, водил его под руку по музейным залам, останавливался перед своими любимыми шедеврами, пересыпал свою всегда блестящую, остроумную речь мыслями об искусстве, воспоминаниями об увиденном ранее.
Отзывчивость Герцена к искусству была его прирожденным свойством. В нем редко и счастливо сочетался дар размышлять перед художественным шедевром, читать в нем, как по летописи, человеческое прошлое, и способность со всей страстностью своей богатой натуры отдаваться той высшей и несравнимой минутной радости, которую человеку дарует лицезрение художественного совершенства, той радости, которая людям однобоко интеллектуального склада недоступна, как высшая математика школьнику.
Унылое однообразие огромных современных музейных залов с их изобилием вырванных из естественной среды и выстроенных в ряд шедевров всегда производило гнетущее впечатление на Герцена. Искусство было для него не предметом изучения, систематизации, собирательства. Он умел самым прославленным шедеврам дать возможность войти в его жизнь, дать место им в самых заветных уголках своего сердца. Вот почему он глубоко понял и оценил «Сикстинскую мадонну», лишь когда в лице своей жены увидел и радость и тревогу материнства, почему воспоминания о ватиканской картине Доменикино «Причащение Иеронима» ожили в нем при похоронах польского революционера Ворцеля.
Бродя по Национальной галерее под руку с Ивановым, он ни минуты не забывал своего жизненного дела. В то самое время, как он наслаждался тишиной музейных зал, у издателя Трюбнера в Лондоне печатные машины уже выбрасывали листки того самого «Колокола», которые будут жечь сердца людей и прозвучат призывным набатом. Но в этот прекрасный день Герцен желал удовлетворить потребность человека быть самим собой. Его богом был тогда жизнерадостный, полнокровный Рубенс, его восхищали голландцы — все то, от чего веяло чувственной прелестью жизни. Видимо, это было для Иванова полной неожиданностью. Здесь среди шедевров ему не под силу было в словесном поединке опровергнуть сверкающее красноречие Герцена. Самого серьезного аргумента — его собственных картин — у Иванова не было под руками, и потому он чувствовал себя безоружным. Он попробовал что-то сказать в защиту итальянской классики, и в частности Тициана, но ему дали понять, что все это давно устарело, — он и сам испугался своей смелости и замолчал. Но в глубине души своей он недоумевал: разве ради того, чтобы узнать пристрастие и вкусы великого человека, предпринял он свое путешествие в Лондон?