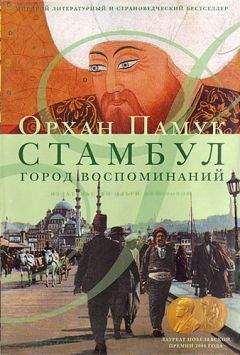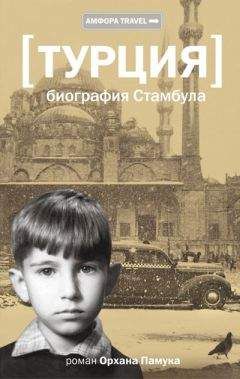Бродил в одиночестве, рисовал в одиночестве и ни с кем не обсуждал прочитанные книги; но были у меня и приятели — не самая лучшая компания, и все-таки я проводил с ними немало времени. Это были сынки богатых фабрикантов, текстильных магнатов и владельцев шахт. В колледж они приезжали на папиных «мерседесах», а вечером, проезжая по проспектам Бебека или Шишли, притормаживали перед каждой симпатичной девушкой и приглашали ее прокатиться. Если им удавалось, как они говорили, «подцепить» девушку и та садилась в машину, они уже начинали воображать, что их ждут небывалые сексуальные приключения. Все они были старше меня, но умственные их способности оставляли желать лучшего, если не сказать больше. Выходные они проводили, разъезжая по Мачке, Нишанташи, Таксиму и Харбийе в надежде подцепить девушку своего круга — из тех, что учатся в привилегированных иностранных лицеях, зимой ездят на Улудаг[92] кататься на лыжах, а летом развлекаются на пляжах Суадийе и Эренкёя. Иногда я выезжал «на охоту» вместе с ними, и меня всегда удивляло, как некоторые девушки могли с первого взгляда определить, что мы — такие же, в сущности, безобидные дети, как они сами, и в нашу машину можно садиться безбоязненно. Помню, однажды к нам в машину уселись две девушки — с таким видом, будто это самое обычное дело — забираться в роскошный автомобиль к совершенно незнакомым людям. Мы немного поболтали, потом зашли в клуб, выпили лимонада и кока-колы и благополучно разошлись, чтобы никогда больше не встретиться. Жила вся эта компания, как и я, в Нишанташи, и мы не только вместе охотились на девочек, но и играли, скажем, в покер. Были у меня и другие приятели — с ними я порой встречался, чтобы сыграть в пинг-понг или шахматы и поговорить о живописи и вообще об искусстве, но с теми, другими, я никогда их не знакомил.
С каждым из моих приятелей я вел себя по-разному, для каждого был другим человеком: менялись мое чувство юмора, голос, даже моральные убеждения. Но это хамелеонство не было обдуманным заранее, коварным и циничным притворством — как правило, мои личины возникали сами по себе, стоило мне увлечься разговором. С необычайной легкостью я становился хорошим, общаясь с хорошим человеком, дурным — общаясь с дурным и чудаком — общаясь с чудаком. Однако, думается мне, именно благодаря этой особенности мне удалось не превратиться после двадцати в презрительно-насмешливого циника, как это случилось с некоторыми моими знакомыми. Если уж я во что-то верил, то верил по-настоящему, всей душой.
Это, впрочем, не мешало мне порой часами валять дурака, отпускать веселые шутки, высмеивать все и вся. Как правило, меня разбирало в колледже, во время особенно скучных уроков. Одноклассники с гораздо большим интересом прислушивались к моему шепоту (замечательно разносившемуся по всему классу), чем к бормотанию учителя, и это наполняло меня радостью — значит, хорошо получается! Обычно мишенью моих насмешек становились унылые, скучные учителя-турки. По некоторым из них было заметно, что они чувствуют себя не в своей тарелке, преподавая в учебном заведении, принадлежащем иностранцам, и подозревают, что кое-кто из учеников «шпионит» за ними и доносит на них американцам; другие то и дело принимались с суровым видом вещать о турецких национальных ценностях и патриотизме. Они были старше, чем американские преподаватели, и казались по сравнению с ними ужасно усталыми, равнодушными и апатичными. Мы чувствовали, что они нас не любят, как не любят уже и самих себя, и вообще жизнь. В отличие от доброжелательных и дружелюбных американцев они в первую очередь стремились заставить учеников выучить наизусть содержание учебника, а тех, кто этого не делал, — наказать. Мы этих старых педантов терпеть не могли.
Учителя-американцы, преимущественно люди молодые (как правило, родившиеся в 1940-е годы), считали своих учеников значительно более наивными и добросердечными, чем мы были на самом деле. Сами они были по-настоящему наивными и добросердечными и так жаждали познакомить нас с достижениями западной цивилизации, что в своем образовательном рвении доходили порой чуть ли не до религиозного экстаза. Глядя на них, мы не знали, что делать — то ли плакать, то ли смеяться. Некоторые из американцев приехали в Турцию, думая, что будут просвещать здесь невежественных детей третьего мира. В большинстве своем они придерживались левых идей, заставляли нас читать Брехта, объясняли Шекспира с марксистских позиций и, разбирая литературные произведения, пытались доказать, что источник всех бед — «плохое» общество, сбивающее с пути истинно «хорошего» по природе своей человека. Один американец, учитель литературы, объясняя нам, как общество отвергает людей, не желающих подчиняться его правилам, то и дело повторял: «You are pushed»[93]. Шутники из класса время от времени отвечали ему: «Yes, sir, you are pushed»[94]. Бедный учитель и не подозревал, что последнее слово этой фразы звучит точь-в-точь как одно турецкое слово, означающее «педик». Мы давились от смеха, но в тайном этом оскорблении было не только желание подшутить над этим конкретным учителем — многие ученики втайне испытывали сильное раздражение по отношению к американским преподавателям вообще, и сейчас оно прорывалось наружу. Этот тихий антиамериканизм, столь созвучный как левацким, так и националистическим настроениям тех лет, доставлял немало душевных терзаний некоторым моим одноклассникам — детям из бедных провинциальных семей. По-настоящему талантливые и трудолюбивые ученики, они сдавали сложнейшие экзамены, чтобы попасть в привилегированный американский лицей. С одной стороны, их влекла американская культура и идеи свободы, им очень хотелось уехать учиться в какой-нибудь американский университет и, может быть, остаться жить в США; с другой — война во Вьетнаме вызывала у них гнев, который порой не удавалось сдержать. У моих приятелей, детей из богатых или просто состоятельных стамбульских семей, подобного внутреннего конфликта не возникало: они рассматривали учебу в Роберт-колледже просто как первую ступень лестницы, которая неизбежно должна была привести их к высоким постам в крупных турецких компаниях или в представительствах компаний западных.
У меня не было ясного представления о своем будущем, но если меня спрашивали, чем я собираюсь заниматься, я говорил, что думаю остаться в Стамбуле и изучать архитектуру. Эта идея уже довольно давно была единодушно одобрена всеми моими родственниками. Поскольку у меня были способности к точным наукам, как у дедушки, папы и дяди, я должен был учиться инженерному делу в Стамбульском Техническом университете; но раз уж я так увлекался рисованием, то было бы вполне разумно поступить на архитектурный факультет того же самого университета. Не помню, кому первому пришло в голову это простое и логичное суждение, но к тому времени, когда я перешел в лицей, я ни о чем другом уже и не думал, все было решено. Мне никогда и в голову не приходило уехать из Стамбула, — не потому, чтобы я был так уж влюблен в родные места, а потому, что мне ужасно не хотелось отказываться от своих привычек, покидать обжитой дом, квартал, город. Уже тогда становилось понятно, что я — из тех людей, которые могут чуть ли не сто лет подряд спокойно одеваться в один и тот же костюм и есть на обед одно и то же, — главное, чтобы у них была возможность предаваться своим необузданным фантазиям.
О смысле жизни и моем будущем мы часто беседовали с папой во время наших воскресных утренних автомобильных поездок. Он в те годы занимал высокий пост в «Айгазе», крупнейшей газовой компании Турции, поэтому время от времени ему нужно было проинспектировать, скажем, строительство какого-нибудь газохранилища в Бююкчекмедже или Амбарлы; иногда он говорил, что нужно навестить бабушку или съездить что-нибудь купить, или просто предлагал прокатиться по Босфору — так или иначе, он усаживал меня в свою машину («форд таунус» 1966 года выпуска), включал радио, и мы отправлялись в путь.
Мы катили по пустым стамбульским проспектам (в конце 1960-х — начале 1970-х в воскресенье утром машины на дорогах встречались крайне редко), слушали «легкую западную музыку» («Битлз», Сильви Вартан или Тома Джонса), и папа говорил мне, что самое лучшее — это жить так, как тебе подсказывает твое собственное сердце, что деньги сами по себе — не источник счастья, а лишь один из способов его достижения, или рассказывал, как когда-то, уехав от нас в Париж, писал стихи и переводил на турецкий Валери, сидя в номере отеля. «Но несколько лет спустя, — весело добавлял он, — чемодан, где лежали эти стихи и переводы, украли у меня в Америке, так что где они теперь — неизвестно». За окнами машины одна улица сменялась другой, разговор перескакивал с темы на тему, в такт то замедляющейся, то вновь набирающей темп музыке, и я понимал, что все папины рассказы — о том, как в 1950-е годы ему часто случалось видеть на парижских улицах Жана Поля Сартра, как был построен Дом семейства Памук, как обанкротилось его первое предприятие — навсегда останутся в моей памяти. Время от времени папа прерывался, чтобы обратить мое внимание на замечательный вид или на проходящую по тротуару красивую женщину, и снова начинал рассказывать о чем-нибудь интересном или, как бы между делом, совсем не поучительным тоном, давал мне наставления. Я внимательно слушал его, глядя на картины стамбульской жизни, окрашенные в цвет свинцово-мрачного зимнего утра: на машины, едущие по Галатскому мосту, на ветхие деревянные дома окраинных кварталов, на узкие улочки и идущих на футбольный матч болельщиков, на ползущий по Босфору буксир, тянущий груженные углем баржи, — и чувствовал, как проплывающие перед моими глазами образы сливаются со словами отца — например, о том, как важно прислушиваться к своей душе и заниматься тем, что тебе на самом деле интересно; о том, что жизнь, в сущности, очень коротка, и очень хорошо, если человек знает, чего он от нее хочет; и о том, что жизнь человека может приобрести настоящую глубину и смысл, только если он пишет или рисует. Через некоторое время музыка, стамбульские пейзажи за окном машины, атмосфера узкой, мощенной брусчаткой улочки («Свернем сюда?» — улыбнувшись, спрашивал папа) сливались в моей голове в единое целое, и я начинал понимать, что ответов на главные вопросы жизни нам не найти, но это не так уж и важно — все равно их нужно задавать; что мы никогда не сможем выяснить, в чем заключается смысл жизни и где спрятано счастье, — может быть, потому, что и не хотим этого знать; и еще — что пейзажи, наблюдаемые нами из окна дома, машины, с борта корабля, имеют не меньшую важность, чем все эти мучительные вопросы, — потому что волнения жизни, подобно переливам мелодии и перипетиям захватывающей истории, рано или поздно подойдут к концу, а проплывающие перед нашими глазами образы города навсегда останутся с нами в наших мечтах и воспоминаниях.