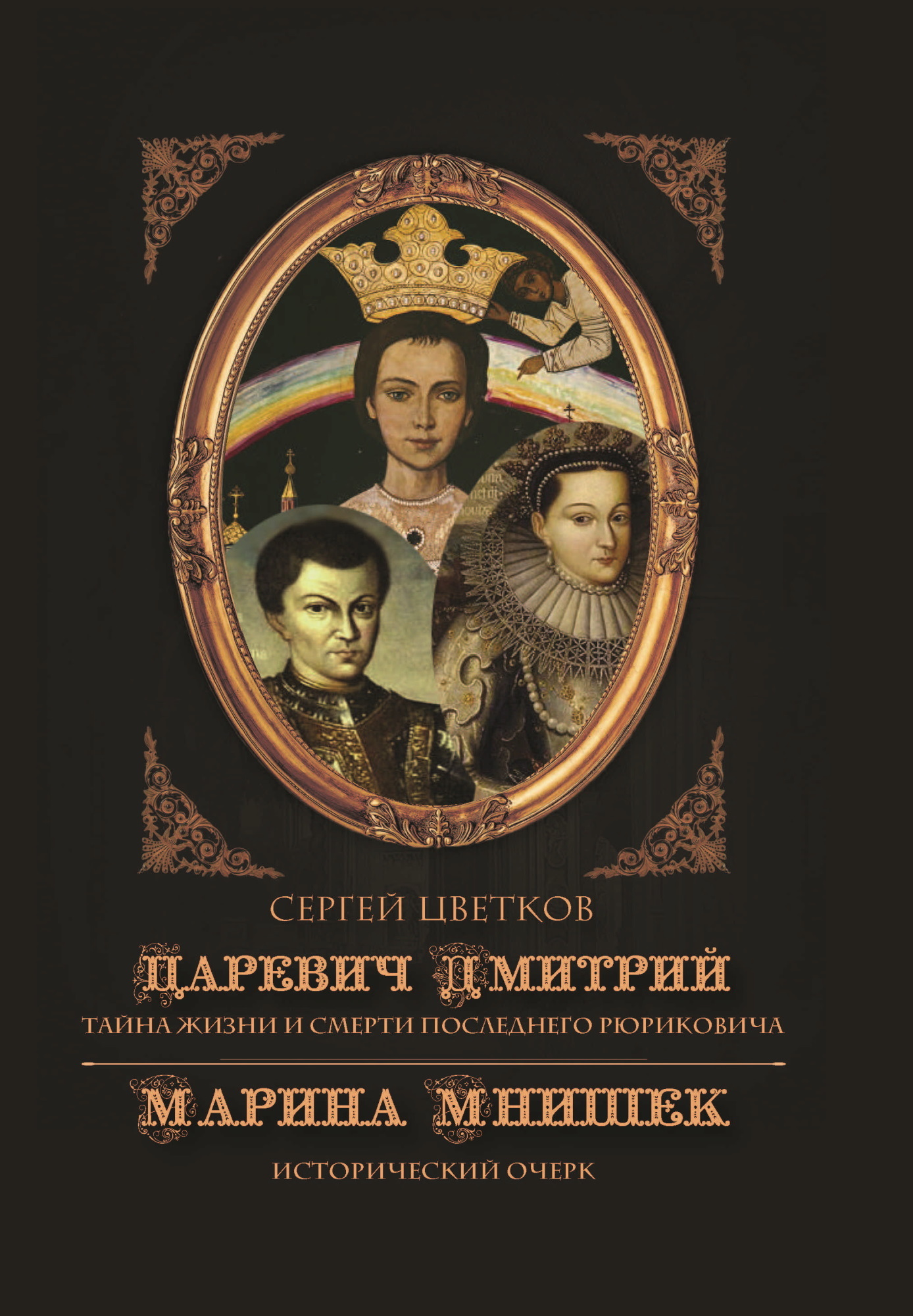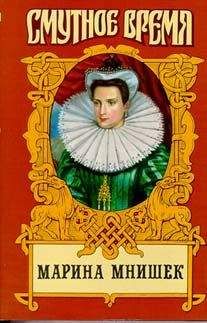отношение к ним со стороны русских. Напротив, в каждой деревне, каждом городе, через которые они проезжали, жители встречали их хлебом-солью. Первая официальная встреча произошла в городе Красном, где Нагой, Мосальский и Воейков с зимы дожидались приезда царской невесты. Послы Дмитрия постарались, чтобы прием дал почувствовать полякам, что они находятся во владениях великого государя; здесь Марина впервые ощутила себя царицей. В Красном к ее свите прибавились еще 500 московских бояр и дворян. В Смоленске царице устроили великолепный въезд в обитых драгоценными соболями санях, запряженных дюжиной лошадей. Немного далее, при переправе через Днепр случилось несчастье: утонул один из паромов с 15-ю поляками. Перепуганные спутницы Марины приписали свое спасение присутствию о. Анзеринуса; тот в ответ любезно заявил, что он «благословен в женах».
В Можайске о. Савицкий посетил одни из городских монастырей. Монахи после некоторых колебаний впустили его и предложили меда и пива. Завязался разговор, во время которого иезуит выразил желание видеть игумена. Братия замялась:
– Он показывается неохотно, так как все время проводит в молитве.
Но настоятель вскоре сам вышел к гостю. По его шатающейся походке и заплетающемуся языку было понятно, что он принадлежит к числу самых закоренелых язычников – поклонников Бахуса. Его веселость сообщилась всей братии, вследствие чего дальнейшая беседа приняла столь бурный характер, что Савицкий начал пробираться к двери и, преследуемый игуменом с бутылью в руке, едва спасся от монашеского гостеприимства.
По одному не вполне достоверному известию, в Можайск инкогнито приезжал Дмитрий и провел здесь двое суток.
19 апреля кортеж прибыл в Вязьму. Здесь Мнишек оставил Марину и отправился в Москву со своей свитой, чтобы лично убедиться, что его дочери не угрожает никакая опасность и заодно, если будет нужно, повлиять на нравственность царя.
Прием, ожидавший воеводу в Москве, ободрил его. Памятуя о пирах в Самборе, царь устроил тестю великолепную встречу. За две версты до столицы Мнишка ожидал Басманов с полутора тысячами дворян и детей боярских; с ним были также четыре отличных лошади в богатейшей сбруе: одна для воеводы, другие для его сына и других ближайших родственников. Въезд в Москву происходил через триумфальные ворота, специально возведенные ради этого события. От триумфальных ворот до бывшего дворца Бориса, который отвели Мнишку, в два ряда стояли дворяне и дети боярские в нарядных кафтанах; Дмитрий инкогнито находился среди них.
После размещения гостей во дворце Бориса, туда сразу явились стряпчие с кушаньями и напитками из царской кухни. Среди разнообразных яств было множество пирогов, которые поляки сочли невкусными, так как они были приготовлены по-русски – без соли. День был отведен отдыху с дороги. Поляки видели Дмитрия только мимоходом, когда он в белом кафтане ехал верхом в Вознесенский монастырь к матери; царя сопровождали алебардщики и конная гвардия. От имени царя к Мнишку пришел князь Иван Федорович Хворостинин, чтобы поздравить воеводу с приездом.
На следующий день, 25 апреля, от дворца Бориса до дворца Дмитрия выстроились в два ряда вооруженные стрельцы. Мнишку подвели «бахмата» – татарского коня в богатой сбруе, которая стоила не менее 10 тысяч рублей. Вместе с ним к царю отправились его родственники и знатные паны.
Пышно одетые бояре повели гостей в царские покои. Первой комнатой, через которую они прошли, был буфет, уставленный от пола до потолка золотой и серебряной посудой; второй – сени, устланные золототканными персидскими коврами, с дверями, наличниками и оконными рамами из черного дерева и золочеными дверными и оконными петлями и засовами. Из сеней Мнишка ввели в царскую палату. Дмитрий сидел на троне со скипетром в правой руке; на нем было золотое платье, унизанное жемчугом и драгоценными каменьями; на голове у него была высокая корона, на шее – тяжелое оплечье, усыпанное алмазами и рубинами, на груди висел большой яхонтовый крест. Трон, вышиной в три локтя, сделанный из чистого золота, стоял на возвышении, под балдахином из четырех щитов, на которых был водружен большой шар с фигурой двуглавого орла; щиты поддерживались колоннами, стоящими на серебряных, наполовину вызолоченных львах. Со щитов, справа и слева от царя, свисали две кисти из жемчуга и драгоценных камней, среди которых особенно выделялся топаз величиной с грецкий орех. Рядом с царем стояли два золотых подсвечника с грифами; за его спиной висела икона Богородицы в богатом окладе; перед ним лежал роскошный ковер.
Дмитрия с обеих сторон окружали по двое рынд в меховых шапках, бархатных белых кафтанах, подбитых соболями, и белых же сапогах, с бердышами в руках; на груди у них скрещивались золотые цепи.
По левую руку царя стоял мечник, в бархатном темно-каштановом кафтане и с обнаженным мечем (видимо, это был князь Скопин-Шуйский), а за троном – слуга с платком в руке. По правую руку сидел освященный собор и ближе всех к царю, на кресле, обитом черным бархатом, – патриарх Игнатий в черной бархатной ризе, расшитой от воротника вниз и по подолу полосой жемчуга и каменьев шириной в ладонь; в правой руке владыки был посох с золотым набалдашником; рядом с ним служка держал блюдо, на котором лежал золотой крест и стоял серебряный сосуд со святой водой.
На лавках, тянувшихся вдоль стен, сидели бояре, окольничие и думные люди. В середине комнаты, напротив трона, были поставлены лавки для гостей; за ними толпились московские дворяне и предводители польской дружины Дмитрия.
Когда свита Мнишка уселась на приготовленных для нее лавках, воевода обратился к царю с речью:
– Не знаю, удивляться мне или радоваться, видя ваше величество на этом престоле! Могу ли я без удивления смотреть на того, кого столько лет считали мертвым, а теперь видят окруженным величием?
Далее он распространился о странной игре человеческого счастья, непостижимости Божественного Промысла, который возвышает одних и низвергает других и воздал неумеренные похвалы храбрости Дмитрия и его терпеливости, с какой он во время своих скитаний и военного похода переносил голод, холод и другие лишения; но главной добродетелью царя, по мнению сандомирского воеводы, была верность своему слову.
– Ваше величество, осыпав меня и золотом, и серебром, избрали супругой себе мою дочь; ни громкий титул царя, ни высокая почесть не изменили вашего намерения. Вы приобрели право на такие похвалы, каких не может выразить ни поэзия, ни история. Я не настолько самонадеян и смел, чтобы быть равнодушным к моему возвышению, но если вспомнить, как воспитана дочь моя, с каким старанием внушены были ей с колыбели все добродетели, приличные ее званию, то смело могу назвать вас своим зятем.
– Дочь моя, – продолжал он, – родилась в свободной стране, где отец ее занимает почетное место в сенате, где каждый шляхтич может достигнуть высоких достоинств. Но лишь только добродетель украшает царей и сильных