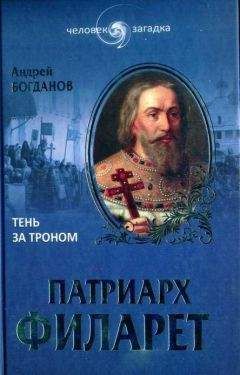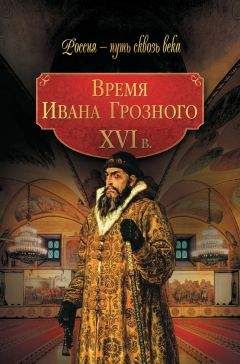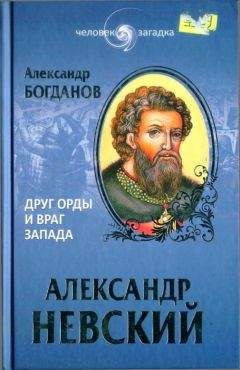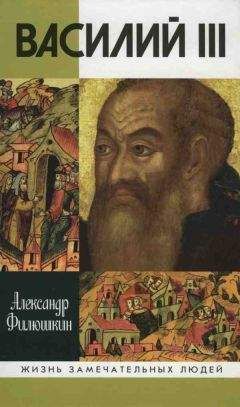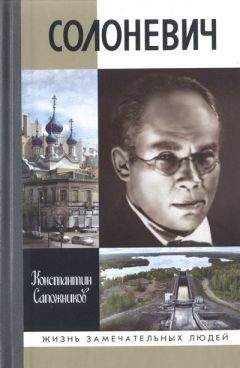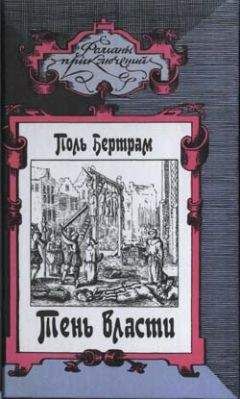О спасении души Филарет Никитич заботился постоянно. При его содействии были возобновлены и вновь построены монастыри: Макариев Желтоводский, Игрицкий, Лебедянский Троицкий, Нижегородский Печерский, Воронежский женский, Феодоровский Московский, Спасский Севский, Долбиновый Астраханский, Акатов Алексеевский и др.; пустыни: Югская, Богородицкая Площанская, Троицкая Опшина и др.; а также Анзерский скит на Белом море и др. скиты. Патриарх принимал личное участие в строительстве многих приходских храмов Москвы и окрестностей.
Вообще весьма щедрый на пожалования церквам и монастырям, Филарет был особо милостив к Новоспасскому. Там были гробницы предков, подле которых как патриарху ему не суждено было лежать (местом упокоения архипастырей был Успенский собор). Но читатель уже, наверное, догадывается, что тихая кончина была не для такого человека, как Филарет Никитич.
Не зря патриарх одного за другим снимал с должности и ссылал думных дьяков Посольского приказа, не сумевших создать подходящие условия для начала уже десять лет как решенной войны с Польшей, санкцию на которую дал ещё Земский собор 1621–1622 гг.! Не зря изобретал он тайнопись для своих заграничных посланцев. Не напрасно потратил уйму средств из скудной ещё российской казны на наём и вооружение первых в России полков «иноземного строя».
Ради мечты о реванше — за себя ли больше, или за захваченные неприятелем земли русские — сам шел на меры чрезвычайные. Так, со шведским королем принято было переписываться и заключать договоры новгородским воеводам. Московские власти были для прямых контактов со шведами слишком заносчивы. А Филарет взял да и написал королю Густаву-Адольфу о дружбе и союзе — лично. Скандал! Но храбрый король уже второй год воевал против европейской католической коалиции, в которую входила Речь Посполитая. Россия изрядно поддержала шведов своим дешёвым хлебом, финансируя их армию через Амстердамскую биржу (где продавала хлеб). Пора было, по мнению патриарха, и нам самим поднять меч на отмщение врагу!
Чтобы остановить и воспятить победоносное шествие по Европе ненавистных католиков, патриарх Московский и всея Руси готов был поддержать мысль об общих интересах православия и протестантизма. Мало того, он энергично добивался вступления в коалицию мусульманской Турции…
Весной 1632 г. умер главный враг Филарета, польский король Сигизмунд III Ваза. В Речи Посполитой, по обыкновению, вспыхнула усобица. Русские полки, нарушив Деулинское перемирие, неожиданно перешли границу, отбили множество городов и осадили Смоленск. Командовал главной армией боярин Михаил Борисович Шеин — тот самый, что героически оборонял Смоленск в Смуту и много лет страдал с Филаретом в плену.
Я отнюдь не подвергаю сомнению справедливость намерения вернуть России захваченные у неё земли. Но в уместности этой войны сомневались ещё русские современники. Даже безусловно патриотичный составитель патриаршего летописного свода 1686 г., опиравшийся на Хронограф Астраханского архиепископа Пахомия, рассказал о начале этой войны критически:
«В лето 1632 года, хотя свою обиду отмстить литовскому королю Владиславу и всем польским людям и не дождавшись прежде упомянутых урочных мировых лет[142], (патриарх) повелевает царю строить рать, дабы обратить вспять от польских людей русские… шестнадцать городов — Смоленск с товарищи, — которыми поступился на перемирии польскому королю государь царь и великий князь Михаил Фёдорович всея России, дабы король отпустил из Литвы к Москве сего Филарета патриарха, и всех русских людей, и тело царя Василия Ивановича (Шуйского)… Патриарх о том не рассудил, что гневу Божию никто не может противостоять: ибо тех городов не вернули, но сами от поляков побиты были, иные же гладом и цынгой вымерли, и кости их там многих остались».
Гнев Божий обрушился на Россию за нарушение клятвы о мире с Речью Посполитой. Как писал современник событий, сбылась над Филаретом старая мудрость, что клятвопреступлением не совершить доброго дела. Эта идея выглядела тем более достоверной, что военные силы Россия накопила к 1632 г. могучие.
«Царь, — продолжает рассказ летописец, — по совету, а больше сказать — по повелению патриархову призывает из датской и из иных немецких земель на помощь себе полковников, именитых людей и храбрых, и с ними множество солдат[143]. И отверзает царские свои сокровища, и жалует немецких людей нещадно, и даёт им в научение ратному делу русских вольных людей, и тем также оружие[144], и жалованье, и корма дает довольные. Также и ко всем русским ратным людям и к иноземцам поставляет начальником боярина своего Михаила Борисовича Шеина и иных воевод с ним множество. И дал им ратных русских людей и иноземцев более ста тысяч[145], и жалованье и корма даёт нещадно, и так отпускает их с Москвы.
А сам государь царь не изволил на поляков идти, понеже был муж милостив, и кроток, и крови нежелателен. И если бы, возложа упование на вседержителя Бога, пошёл сам, мню, что не погрешил бы подвига того», — пишет летописец, необычно критичный в этом тексте даже к самому царю. Критичность эта была оправдана масштабами катастрофы, случившейся с огромной армией, созданной долгим и тяжким трудом. Виновниками гибели армии россияне сочли первых Романовых: в меньшей мере — сына, в большей — его отца Филарета.
Поначалу война развивалась победоносно: «Боярин Михай-ло Борисович Шеин со всеми воеводами и ратными людьми двинулся с Москвы в силе тяжкой, имея с собою больших пушек, и всякого оружия, и всяких стенобитных козней, и всяких запасов множество. Многие же о том русские историки повествуют, что в Великой России такого ратного стройства не бывало, а коли будет впредь, то уж и недивно будет.
По сём боярин Михайло Борисович посылает от себя разных воевод под все… города, которыми литовские люди владеют, не со многими силами. Те московские воеводы достигают до назначенных им городов, и каждый воевода каждый град принимает, как птичье гнездо на руку свою, в один месяц без всякого кровопролития, потому что не чаяли на себя поляки русских людей прихода до (истечения) урочных мировых лет. И все те города заняли русские люди».
Хуже шли дела у главной армии: «Сам же боярин Михайло Борисович со товарищи своими и со всем оружием и с запасами пошёл под самый стольный град Смоленск косно (медля), потому что возбраняла ему сила Божья за его неправду… Много прежде тех времен взят был этот боярин Михайло в Литовскую землю из того же града Смоленска1. И когда отпустили к Москве Филарета митрополита и сего боярина Михаила, тогда он, Михайло, польскому и литовскому королю по христианской вере целовал крест Христов на том, что ему никогда против литвы и поляков не стоять и ничего злого не умышлять; ибо боялись его поляки, настолько тот Михайло мудр был. Полагаю, — заметил летописец, — что не неведомо это было и царю, и патриарху. Однако, как сказано, «скорому совету последует раскаяние», или, простонародно говоря, «после рати много храбрых», но нам пристойно чужими бедами спасаться».