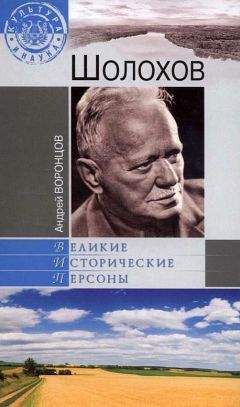Михаил посидел, пригорюнившись, у окна, покурил, потом оделся, вышел, расплатился с хозяйкой, отвязал Серого и, гикнув, поскакал наметом.
Вскоре хутор, где пришла к нему первая любовь, остался позади. В низинах скрипуче кричали коростели. Михаил перешел на рысь, жадно, всей грудью вдыхал влажные, отчего-то всегда тревожные запахи отходящей ко сну степи. Он думал о том, насколько разная судьба выпала двум Анастасиям — его матери и Насте. Мать, как и всякая простая русская женщина, не выбирала себе пути, а шла тем, которым вело ее сердце, а Настя, ненадолго дав волю своим чувствам, вернулась, верная голосу крови, на наезженную, твердую, с глубокими колеями дорогу, проложенную до нее многими поколениями рода Поповых. Так удивительно и вместе с тем закономерно заканчивалась давняя история, начатая в Ясеновке еще до его рождения романом барина и крестьянки. Судьба Насти была зеркальным отражением судьбы Анастасии Даниловны — перевернутым, как две дамы на игральной карте. Карте, что выпала в жизни ему.
Подумав это, он вдруг забыл об острой занозе, что оставила в его душе Настя. Была у него в жизни еще одна страсть, еще одна любовь… Мысли Михаила перенеслись к ждущему его на колченогом письменном столе роману. История любви героя давалась ему трудно, он плохо представлял, как вести ее через всю книгу. Теперь же, увидев жизнь дорогих ему женщин в образе двух одинаковых, но глядящих в разные стороны дам, он вдруг с необыкновенной ясностью понял: это то, что ему нужно! Две женщины на одной карте: то одна, то другая оказывается вверху, но карта эта жестоко бита судьбой…
* * *
Вскоре после расставания с Настей Михаил перевез семью в Вешенскую. Он снял две комнаты в просторном, белом, уютном, с крылечком курене вдовы Солдатовой, родственницы приемного отца Харлампия Ермакова Архипа Солдатова. Теперь ему ближе стало ездить к Ермакову в Базки. Останавливался, как всегда, у Федора, зная, что дочка Ермакова Пелагея, не любящая молодую мачеху, здесь обычно играет или учит уроки с харламовской Веркой, весело говорил ей: «А ну, чернявая, смотайся на одной ноге за отцом!» Тоненькая, смуглая в отца и красивая в мать, Прасковью Ильиничну, Поля послушно бежала на другой конец хутора. Приходил Харлампий, садились за стол у раскрытого в сторону Дона окна, выпивали по стопке, потом Федор шел по делам, а Михаил с Харлампием порой засиживались до самой зари…
Однажды под окном раздался какой-то шорох, а потом сухой треск — словно на сучок кто-то наступил. Ермаков вскинулся, ухватился за край подоконника, как за луку седла, легко перекинул свое сухое жилистое тело наружу, в сад. Там кто-то ойкнул, тяжело, по-медвежьи шарахнулся в кусты, затопотал. Харлампий пронзительно свистнул, так что у Михаила даже уши заложило. Хрястнул плетень соседского база. Михаил высунулся в окно с лампой. Она осветила присевшего, руки в колени, Ермакова, хищно вглядывающегося в темноту. У Пятикова залилась яростным лаем собака, за ней другая, третья — и так до самой околицы, как и заведено в деревне.
— Эх, неохота морду об ветки обдирать, а то бы догнал в два счета, накостылял, — с сожалением сказал Ермаков.
— Да это ребята, небось, малину рвали.
— Робяты? Ты слышал, как он ломился, чисто кабан? Не-эт, энто не робяты, энто здоровенный казачина. Только чего он здесь ховался — вопрос. Да я вроде даже узнал его, хучь и темно. Глаз у меня, Миня, вострый: сдается мне, что энто Андрюшка Александров, ревкомец бывший. В 18-м годе за белых на Калачевском фронте воевал, а в 19-м перекинулся, с обысками ходил. Мы его, поганку, простили, только жопу маленько плетюганами изукрасили. А он, как Кудинов объявил мобилизацию, убег. И был бы он ишо идейный, как, к примеру, Миронов или Бакулин, — так нет! Есть среди казаков дюже завистные люди. И не богатству завидуют — какой я, скажем, богач, ежели меня батя по маломочности прокормить не мог? — а казацкой лихости, цацкам железным. Мы с ним, мол, из одного хутора, вместе без штанов бегали, а почему он офицер, полный бант крестов имеет, а я — шиш? Почему он и у белых начальник, и у красных начальник, а я завсегда — рядовой? Через эту зависть, между прочим, и кубанского главкома Сорокина извели, и Миронова. — Харлампий помолчал. — Завтрешний день надо бы посмотреть на его рожу: коли в ссадинах, стал-быть, он туточки обретался.
— А чего ему было здесь надо?
— Чего? — синеватые белки Ермакова насмешливо блеснули в свете лампы. — А послухать, об чем мы зараз гутарим. Ты за собой в последнее время пригляда не замечал?
— Да нет вроде, — пожал плечами Михаил.
— А я замечаю давно, с тех самых пор, как пришел из Красной армии. А с нонешней весны стали чуть ли не по пятам ходить. В сельсовете появился новый статистик, ни хрена не делает, а с меня глаз не спущает. Вот и думаю я: отчего бы энто? Не оттого ли, что мы с тобой гутарим?
— Харлампий Васильевич, да ведь «дело» ваше прекратили?
— Как прекратили, так и снова зачнут. Што им, долго? Я ведь, по их мнению, белый офицер. Я один на Верхнем Дону остался из тех, кто командовал восстанием. Знаю я, и впрямь, о тех временах немало — вот и тебе рассказываю. А ты ведь могешь и написать.
— Что ж такого?
— А то, что не хотелось бы большевикам, чтобы вобче вспоминали об энтом восстании. Открылось тогда народу многое… А ты возьмешь и ненароком напомнишь, даже если напишешь, как в своих «Донских рассказах», с одной стороны.
Только теперь Михаил понял, как Ермаков, если находится под наблюдением, рискует, делясь с ним воспоминаниями.
— Харлампий Васильевич… Если вы думаете, что они следят за вами из-за этого… Может, нам встречаться тайком?
— Шалишь! — по-волчьи оскалил зубы Ермаков, обращаясь, очевидно, не к Михаилу. — Я ить не баба, чтобы встречаться тайком! И не мышь подвальная! Я коренной казак, фронтовик, дивизией командовал, начальником кавшколы был — все енеральские должностя, чтоб ты знал! Меня убить можно, а запугать — ни-ни! Я ишо на первом допросе в Чеке сказал: «Пущай мне зачтут службу в Красной армии и ранения, какие там получил, согласен отсидеть за восстание, но уж ежели расстрел за это получать — извиняйте! Дюже густо будет!» Они тогда, помню, удивлялись: сидит у нас и командует, расстреливать его или не расстреливать. Но ить не расстреляли! А кабы я в ногах у них валялся? Шлепнули бы, как пить дать. Ты, Михайло, пойми: мне нельзя по углам хорониться, на меня народ смотрит. Слабые завсегда за сильными тянутся. А ежели сильных не станет? За кем народу тянуться?
Харлампий смотрел на Михаила, как-то странно улыбаясь в усы. Потом он с шумом втянул носом воздух, огляделся. Была теплая, безветренная ночь. Пахло липой, смородинным листом и тем сложным, неповторимым запахом, что выделяют листья и травы, обильно увлажненные росой. Воздух был так чист, что Михаил вдруг почувствовал, как провоняла его гимнастерка табаком, что обычно не ощущают сами курильщики.