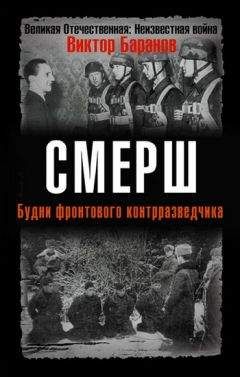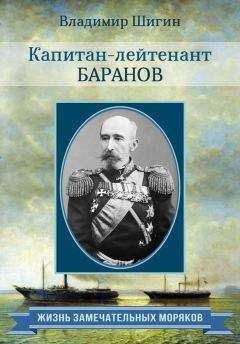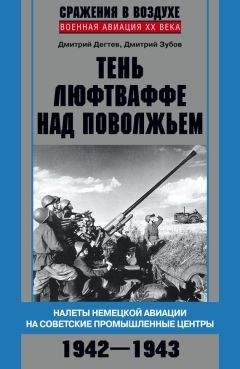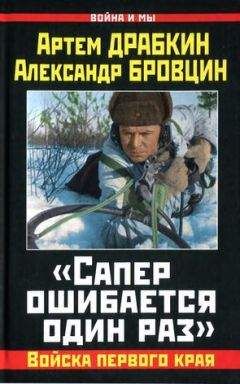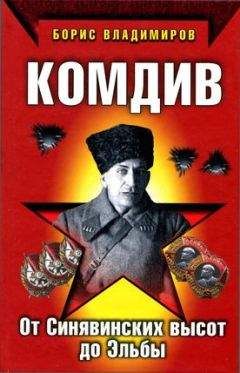И сейчас он тоже должен сделать рывок и добиться, чтобы Туманов оценил его как политически зрелого, принципиального коммуниста, на которого он всегда может опереться в нужный момент! Он снова выстраивал цепь фактов, собранных им против своего шефа. Ему казалось, что их с излишком хватит, чтобы того не только сняли с должности, но и наказали по партийной линии. Вот здесь Кузаков мог бы внести свою лепту… Картины, одна отраднее другой, виделись ему: как Сазонов что-то лепечет в свое оправдание, а его принуждают признать свои ошибки и просчеты, а он сидит бледный, с опущенной головой! Однако никакого снисхождения и скидок к нему, хотя он в дивизии с начала войны: и отступал, и наступал с ней, и два ранения… Так у многих коммунистов гораздо больше заслуги, пусть этим не кичится! На этом Бондарев заканчивал представлять картины уничтожения своего шефа, считая, что с ним уже все кончено. «Но вот, что же сказать Туманову о себе, чем возбудить и укрепить его доверие и симпатию?! А не поступить ли мне так, как это было тогда у секретаря обкома — прямо в лоб и сказать, так, мол, и так, рассчитывайте на меня, товарищ полковник, в любое время, если что-то случится, я всегда могу сделать для вас все, не. жалея сил и, если потребуется, жизни! И в случае чего я вас всегда буду информировать обо всем! Что делать и куда деваться Туманову от таких слов, а?! Прогнать… Но, надеюсь, он человек воспитанный, не позволит себе такого… Да и мои слова, что он такой умный и пользуется громадным авторитетом во всех частях армии, неудовольствия в нем не вызовут, возражать он не станет. А то, что я его маленько перехвалю, так от этого еще никто не умирал! И, может быть, после таких слов он поймет, проникнется ко мне и назначит меня на отдел?» От такого исхода дела у Бондарева захватывало дух и радость заполняла все его существо. И тогда ему казалось, что сегодняшний солнечный день был с ним заодно!
Штаб N-ской армии располагался в небольшом, на редкость хорошо сохранившемся городке. Поговаривали, что еще в конце осени сорок третьего года Западный фронт, собирая последние усилия для наступления, получил приказ Ставки о переходе к обороне. Тогда и была подготовлена последняя операция по освобождению Сенежа. Противник, огрызаясь огнем артиллерии и шестиствольных минометов, в спешке, боясь окружения, отошел на заранее подготовленные рубежи в двух десятках километров. В отличие от тех населенных пунктов, что раньше встречались в полосе наступления дивизии, где, в основном, торчали молчаливые печные трубы, Сенеж выглядел уютно, несмотря на громадные маскировочные сетки над домами главной улицы. Кое-где около домов, приткнувшись к заборам, стояли коротенькие американские джипы — «виллисы». Бросались в глаза указатели на фанере, досках от снарядных ящиков с надписями «Хозяйство Лунькова» и многих других, известных лишь офицерам из штаба армии. Впервые за много месяцев Бондарев увидел и женщин в форме. Ему навстречу шли две девицы в аккуратно подогнанных и ушитых в талии шинелях, в сапожках, сверкая коленками стройных ног, разговаривающие между собой и не обращающие внимания на призывные взгляды встречных мужчин.
Дом армейского «Смерша» выделялся добротностью, хорошим забором и двумя часовыми у ворот. Вышел начальник караула, сержант в новой шинели, и, бегло посмотрев на удостоверение, сказал, что двуколка будет ждать Бондарева в хозвзводе. Открыв калитку, он проводил его в канцелярию, где сидел пожилой старшина с лысиной и, не обращая внимания на вошедших, быстро отстукивал на машинке. Сержант предложил раздеться, и Бондарев запрятал свой полушубок в большой шкаф; сел, открыл планшет и вытащил свою заветную тетрадку.
Полковник Евгений Иванович Туманов, в хорошей шерстяной гимнастерке и поскрипывающей портупее, выглядел моложаво для своих пятидесяти. Он сидел за столом с зеленым сукном, углубившись в какие-то бумаги. Стол ему достался от немцев. Судя по оставленным бумагам, здесь располагались вермахтовские снабженцы. При внимательном, на случай минирования, осмотре помещения на ножке стола была обнаружена инвентарная металлическая бирка, явно указывающая на то, что дуббвый красавец стол принадлежал смоленскому горкомхозу. «Экие барахольщики, — подумал тогда Туманов о немцах, — притащили из Смоленска, не поленились. Тоже мне, поклонники красоты и комфорта!..»
Во время читки его мысли возвращались к вчерашнему звонку по «ВЧ» из Центра своего старого друга Перфильева. По его намекам Евгений Иванович понял, что в скором времени ожидается замена комфронта и Члена Военного Совета. Об этом здесь говорили уже давно, слухи о их взаимной неприязни давно были предметом обсуждения шоферов штабной автороты. Они, кстати, всегда оказывались первыми, кто был в курсе внутренних взаимоотношений руководства фронта.
Командующий фронтом — генерал Соколовский[42], как знало его окружение, был решительным и властным человеком и единоначалие понимал без остатка в свою пользу. Член Военного Совета — генерал Мехлис был болезненно самолюбив, стремился превысить свои полномочия, вмешиваясь в командование частями фронта.
Туманов помнил первое знакомство с Мехлисом, когда тот прибыл в штаб Западного фронта, собрал в первый же день всю верхушку политработников четырех армий и начальников Особых отделов и, никому не дав слова, сам два часа говорил об укреплении политического руководства фронта, высказывался о мягкотелости прежнего Члена Военного Совета генерала Булганина и потребовал от особистов тесного взаимодействия с политорганами, признания их старшинства и усиления политического контроля за армейским руководством.
Мехлис, небольшого роста, черноволосый, с проседью на висках, метал громы и молнии в адрес всего командного состава фронта, обвиняя всех в отсутствии твердости в достижении поставленных целей, медлительности и, самое главное, недооценке партийно-политической работы и умалении роли политорганов.
Была и еще одна встреча с Мехлисом, когда случилась драка пехоты с кавалеристами-башкирами на почве дележа захваченных трофеев. Тогда он немедленно созвал всех начальников Особых отделов армий и прочитал им лекцию об интернационализме и нерушимой дружбе народов. Все понимали, что потасовка между стрелками и кавалеристами произошла из-за брошенного немцами барахла. Но Мехлис усмотрел в этом национальный конфликт и упрекал особистов в том, что они не ведут предупредительную работу по выявлению фактов шовинизма в частях. Никто не возразил ему, но все поняли, что он хотел показать свою волю и влияние на органы контрразведки, чтобы создать легенду о своем могуществе. По агентурным сведениям особистов, офицерский корпус был на стороне комфронта. Все знали о его командном и штабном опыте работы в войсках с самого начала войны. Штаб его фронта был воплощением аккуратности и порядка. А штабы частей пополнились офицерами, — способными к штабной работе, и в этом была заслуга генерала Соколовского. А что касалось Мехлиса, то, как сказал поэт, «…без радости была любовь, — разлука будет без печали», — слишком уж он перегибал палку и все заботился об авторитете политорганов. И, конечно, любил, чтобы его восхваляли, но грубой лести не выносил, а вот если кто-то намекал ему о его масштабном понимании марксизма, а еще лучше, если упоминался Институт Красной профессуры, где он закрепил свое политическое образование, тогда, как рассказывали свидетели этих бесед, его нельзя было остановить — он мог часами со слезами на глазах рассказывать о кузнице интеллектуальных партийных кадров…