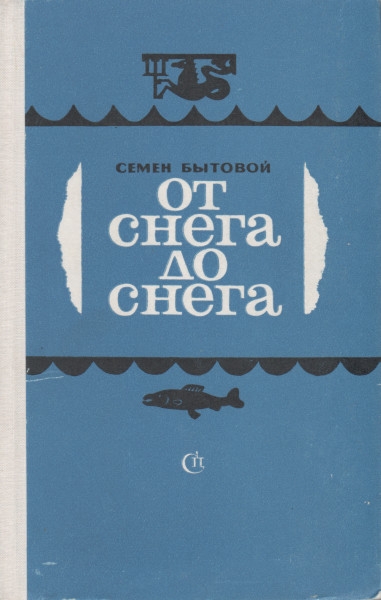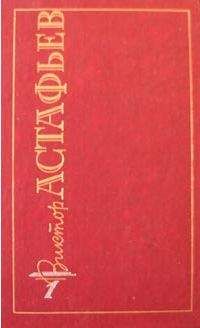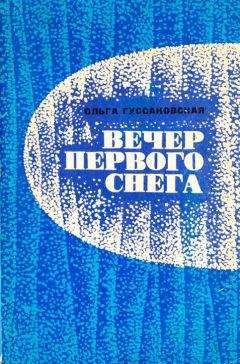— таскал. Зато в завтрак, в обед и перед закрытием магазина Тома впрок накладывала в кульки обрезки, и я наедался досыта. Перепадало кое-что и из колониальных товаров. Я уходил со склада с полными карманами грецких орехов, фиников, изюма.
Видя мое усердие, да и Тома давала обо мне самые лестные отзывы, хозяин не рассчитал меня ни через неделю, ни через две.
Мне было так хорошо и сытно в магазине колониальных товаров, что я перестал интересоваться биржей труда и за все это время только раз ходил туда за пособием.
Нетронутым капиталом лежали у меня в кармане и часы гипнотизера: случись что-либо непредвиденное, как-нибудь протяну зиму, а весной, если ничего не подвернется лучше, вернусь на Ломанский, 15.
Вот бы из ночлежки уйти, из Гопа...
Но как оттуда уйдешь? Не ночевать же в эти лютые морозы в парке?
В конце концов проклятый Гоп меня и подвел: я лишился работы в магазине «Исай Волах с братом».
И вот как это произошло. Во время субботнего медосмотра среди ночлежников обнаружили больного сыпным тифом. Это был холодный сапожник Егорыч с барахолки, тихий, безобидный человек лет пятидесяти, с большой лысой головой и к общему удивлению, совершенно непьющий. Попроси Егорыча подбить подметки или поставить латку на сапогах — не только не откажет, но и не возьмет денег. И вдруг занемог он. В пятницу не пошел на барахолку, провалялся весь день на нарах с головной болью, а назавтра стал гореть огнем — температура подскочила до сорока. Как раз в субботу медосмотр, и врач, подойдя к Егорычу, сразу поставил диагноз: сыпняк!
Егорыча в желтой карете увезли в заразные бараки, а всех, кто ночевал с ним в одном помещении, подвергли тщательной санобработке.
Когда нам вернули побывавшую в вошебойке одежду, она так пахла карболкой, что невозможно было дышать. Хорошо, что в субботу магазин «Исай Волах с братом» выходной и мне не нужно было являться туда. Весь день бродил я по городу, проветривая на морозе свою бекешу, перешитую из солдатской шинели, и шапку-ушанку из вытертого шелудивого меха кролика, надеясь, что к утру они уже не будут пахнуть. Я даже не ночевал на Расстанной, а провел эту ночь с одним знакомым парнем в Белорусском клубе на Троицкой улице, куда мне, кстати сказать, вскоре удалось устроиться ночным сторожем.
Словом, будучи уверенным, что запах карболки из моей одежды полностью выветрился, я в воскресенье утром пришел в магазин. Тома, как всегда, приветливо встретила меня, напихала в кулек обрезков побольше, и я до прихода хозяина сел в углу завтракать. Подкрепившись, взялся за работу: вынес пустые ящики, принес со склада — с товаром.
Надо же было, чтобы в этот день заглянула в магазин жена Исая Волаха, полная чопорная дама в котиковом манто и с беличьей муфтой.
Когда я нес ящик с апельсинами, столкнулся с ней в дверях. Не успел опустить его, как услышал писклявый голос:
— Исай, от твоего черноработника ужасно пахнет карболкой. Удивляюсь, как ты его допустил до колониальных товаров! Фи!
И сердце у меня упало. Я понял, наступил конец моему счастью.
Я сделал вид, что ничего не случилось, и принялся отдирать топориком железные скобы на ящике.
Явился хозяин. Стал принюхиваться. Отошел от меня на два-три шага, потом снова приблизился.
— Где это ты так провонял? — спросил он. — От тебя разит, как от старого гопника.
Я молча пожал плечами.
— Ну, что же ты стоишь как телеграфный столб? — повысил он голос. — Скажи, где ты проводишь ночи?
— У родных, где же? — соврал я. — У меня тут живет тетя. Я у нее и ночую...
— А откуда карболка?
— Какая карболка?
Тут раздался голос его жены:
— Исай, что ты с ним рассуждаешь? Гони его к чертовой матери. Из-за этого беспризорного бродяги нельзя зайти в магазин!
Хозяин помолчал минуту, изучающе оглядывая меня с головы до ног, потом сказал Томе:
— Дай ему трояк, и пусть он себе уходит...
«Нэпачи проклятые, — подумал я, — чтобы вы оба не дожили до следующей субботы!»
Несмотря на свое несовершеннолетие и необразованность, я уже кое-чему научился в жизни и стал понемногу разбираться в политике. Я понимал: людей надо различать не по их национальной принадлежности, а по имущественному положению, то есть по бедности и богатству. Нэпачи — будь они хоть евреи, хоть русские, хоть какие — все, без исключения, буржуи и эксплуататоры, с ними раньше или позже придется кончать.
А простые рабочие люди, пролетарии всех наций — друзья, братья, готовые помочь друг другу в беде.
Взять хотя бы старого каменщика Андрея Силыча! Бывало, я проигрывал пышечнику последние медяки или трамвайные талоны (нам, подросткам, каждые десять дней выдавали по двадцать бесплатных талонов), Силыч не сядет без меня обедать. Или мой новый мастер, финский коммунист Ярви Ярвинен, у которого я стал работать подручным. Как он приветливо встретил меня и на первых порах, пока я осваивал новое ремесло, возился со мной!
Раза три я еще заходил в магазин к Томе, и она, втайне от хозяина, собирала мне в кулек колбасных и сырных обрезков, а однажды сунула туда жареную гусиную ногу.
Вскоре Томы почему-то не стало. Вместо нее за прилавком стояла кудлатая девка с глазами навыкате, ужасно похожая лицом и фигурой на жену Исая Волаха.
— Где Тома? — спросил я, подходя к прилавку.
— Я знаю, где она шляется? — И со злой улыбкой добавила: — Может, на Караванной, а может, и на Лиговке...
Эти слова как ножом полоснули по сердцу. В ночлежке я уже немного просветился и знал, что это нехорошо, когда девушка ходит вечером на Караванную, а тем более на Лиговку. Наверно, врет, кудлатая, про Тому, врет бесстыдно, от зависти, потому что Тома стройная, красивая, а она сама — урод.
— Что ты тут стал как пень! Иди отсюда, бродяга, не мешай торговать! — чуть ли не с ненавистью сказала она и перегнулась через прилавок, чтобы оттолкнуть меня. Но я опередил.
— Сама ты шлюха! — И шлепнул ее по щеке.
— Дядя Иса-а-й! — дико заорала она. — Он грабит конторку!