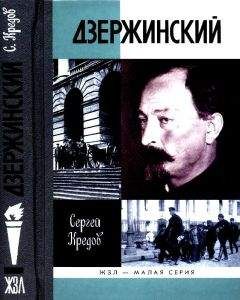Но это не очень заметные пока процессы. Общее ощущение, что в стране политическая оттепель. В Москве и Петрограде нетрудно достать эмигрантские газеты и журналы, в частных издательствах выходят мемуары даже белогвардейцев. На родину, получив разрешение советского правительства, возвращаются тысячи эмигрантов. Рождается направление общественной мысли — сменовеховство. Для непримиримой эмиграции оно страшнее красной пропаганды. Полюбуйтесь-ка, говорят сменовеховцы, большевики добились того, о чем белая армия не могла и мечтать. За три-четыре года из руин собрана Единая и Неделимая. В комиссарах проявился дух самодержавия. Теперь объявлена новая экономическая политика. Надо возвращаться и сотрудничать с властью, пытаясь добиться ее нравственного перерождения. Может быть, и не удастся, но попробовать стоит. Для белых сменовеховцы — предатели. Но и для Ленина и его единомышленников они — враги, из самых опасных, поскольку надеются «извратить» суть преобразований...
В этот исторический момент «философские пароходы» повезли из республики людей, которые с властью не боролись. Цвет дореволюционной мысли.
И этим неблагодарным делом вынужден заниматься председатель ГПУ Дзержинский. С его-то страстностью...
Глава сорок вторая. ПРЕВЕНТИВНОЕ МИЛОСЕРДИЕ
Громадье планов и дерзание — в экономике, унтерпришибеевщина — во внутренней политике...
19 мая 1922 года Ленин пишет председателю ГПУ: «Тов. Дзержинский! К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции. Надо это подготовить тщательнее...» Вождь предлагает начать с «явного центра белогвардейцев» — авторов журнала «Экономист»: «В № 3 <...> напечатан на обложке список сотрудников. Это, я думаю, почти все законнейшие кандидаты на высылку за границу». И далее:
«Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее слуг и шпионов и растлителей учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих “военных шпионов” изловить и излавливать постоянно и систематически и высылать за границу».
17 июля, едва восстановившись после первого инсульта, вождь сердится, что задуманная им операция не закончена. Он пишет Сталину: «Надо бы несколько сот подобных господ выслать за границу безжалостно. Очистить Россию надолго. Арестовать несколько сот и без объявления мотивов — выезжайте, господа!»
Наверное, так и лучше было — без объявления мотивов... Троцкий назвал эту акцию в газетном интервью «превентивным милосердием». Большевики, сказал он, выдворяют из страны тех, кого в будущем при возникновении кризиса пришлось бы расстреливать.
Большинство из высылаемых ни одной минуты не вели борьбы с советской властью. На них стали фабриковать дела. «Следствие» в отношении философа Николая Бердяева сотрудник ГПУ Бахвалов завершает резолюцией: «С момента октябрьского переворота и до настоящего времени он не только не примирился с существующей в России в течение 5 лет Рабоче-крестьянской властью, но ни на один момент не прекращал своей антисоветской деятельности, причем в момент внешних затруднений для РСФСР Бердяев свою контрреволюционную деятельность усиливал».
В наши дни книги о русской революции невозможно представить без цитат из трудов этого «антисоветчика». Защищает он и своих гонителей: «Мне глубоко антипатична точка зрения слишком многих эмигрантов, согласно которой большевистская революция сделана какими-то злодейскими силами, чуть ли не кучкой преступников... Ответственны за революцию все...»
28 сентября первая группа мыслителей, ученых, литераторов, общественных деятелей, оказавшихся опасными для новой России, отбыла на пароходе из Петрограда в Германию. На борту судна — философы Бердяев, Булгаков, Ильин, Франк, Степун, социолог Сорокин, математик Стратонов, историки Кизеветтер, Флоровский, литераторы Осоргин, Айхенвальд, биолог, ректор Московского университета Новиков... Каждому из них позволено взять с собой лишь самое необходимое: зимнее и летнее пальто, костюм (один), рубахи (две), простыня (одна)... Из ценных вещей не разрешено взять ничего, даже нательных крестов. Дома остаются библиотеки. Книги, рукописи к провозу запрещены.
Инициаторы расправы над беззащитными людьми только что выиграли Гражданскую войну, выдержав натиск 14 держав, собрали страну, восстанавливают промышленность, успешно борются с голодом, беспризорностью, неграмотностью...
В Москву приезжают западные интеллектуалы, сочувствующие коммунизму. Некоторые пересекают границу с почти религиозным трепетом — перед ними открываются врата нового мира. Клара Цеткин из Москвы советует им, прибывая в пролетарскую Мекку, снимать башмаки. Немецкий поэт Макс Бартель восклицал: «Раньше я не понимал крестоносцев, целовавших землю, по которой ступал Спаситель, но сам я испытал на русской границе подобные же чувства».
Неожиданное и неприятное открытие для гостей... Русский Давид, победивший империалистического Голиафа, оказывается, боится. Чего? Иных мнений. Большевики в разговорах по-кафкиански осторожны. Они воздерживаются от утверждений, не санкционированных партией.
Бертран Рассел, английский философ, математик, считал Октябрьскую революцию явлением более значительным, чем французская. Рассел приехал в Россию в мае 1920 года, считая себя коммунистом. Около часа разговаривал с Лениным. Вождь Октября произвел на англичанина впечатление «крайне самоуверенного, несгибаемого ортодокса», чья сила основана на «религиозной вере в евангелие от Маркса». Ради своей веры русские коммунисты готовы «множить без конца невзгоды, страдания, нищету». Общение с теми, у кого нет сомнений, усилило в Расселе его собственные сомнения. Он заявил, вернувшись в Англию, что вынужден отвергнуть методы большевиков по двум причинам:
«Во-первых, потому, что цена, которую должно заплатить человечество за достижения коммунизма, более чем ужасна. Во-вторых, я не убежден, что даже такой ценой можно достичь результата, к которому стремятся большевики».
Марксизм перестал быть предметом свободного исследования. И как только это произошло — потерял право называться научной теорией. Исповедующие такой марксизм совершают «интеллектуальное самоубийство», делает вывод Рассел в брошюре «Практика и теория большевизма».
Благожелательно настроенные гости не могут понять: почему русские коммунисты так нетерпимы к инакомыслию? Их успокаивают: это временно. Скоро все наладится.
Но не налаживается. В 1927 году итальянский коммунист Игнасио Силоне прибыл в Москву для участия в работе Исполкома Коминтерна. На одном из заседаний председательствующий предложил принять резолюцию, осуждающую письмо Троцкого в политбюро о провале революции в Китае. Итальянец попросил показать ему крамольный текст, но встретил всеобщее непонимание. Просветил его более искушенный товарищ из болгарской компартии. Какая разница, что в этом письме? Главное, за кого ты: за Сталина или за Троцкого. Силоне голосовать втемную отказался, после чего сам превратился во «врага». (Еще в 1922 году Александра Кол-лонтай сказала ему: «Если ты прочтешь в газетах, что Ленин приказал арестовать меня за кражу ложек из Кремля, это будет всего лишь означать, что я не полностью согласилась с ним по одному из второстепенных хозяйственных вопросов». Итальянец подумал тогда, что она шутит.)