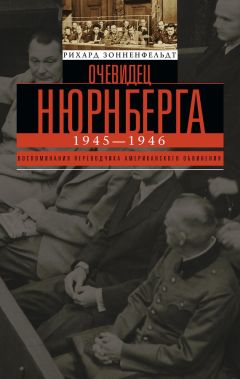Работая в Нюрнберге в 1945 году, я не ездил в Гарделеген. В последующие полвека воспоминания о Гарделегене почти стерлись. Окончив университет Джона Хопкинса, я стал инженером-изобретателем в «Радио корпорейшн ов Америка», где участвовал в работе над цветным телевидением. Впоследствии я перешел на руководящую должность и потом стал корпоративным директором и бизнес-консультантом мирового уровня. В конечном итоге я возглавил компанию NAPP. Я счастливо женился и, будучи мужем и отцом троих детей, ненадолго стал любящим опекуном моих родителей на закате их дней. Моя жена Ширли умерла. Через некоторое время женился на Барбаре. На двоих у нас пятнадцать внуков. Как мореход и любитель приключений, я трижды пересек Атлантический океан на собственной парусной яхте, причем последним плаванием я отметил свое семидесятилетие и отход от дел.
Но прежде чем я ушел из компании, в 1977 году, я по делам поехал в Германию, и мой маршрут рейса «Бритиш эруэйз» Ганновер – Берлин пролегал ровно над Гарделегеном, который тогда еще находился в коммунистической Восточной Германии. Был ясный день, и с высоты в три тысячи метров я в одолженный у пилота бинокль сумел разглядеть церковь, ратушу, свою старую школу, улицу, на которой жил, и даже наш дом. По крайней мере с высоты все казалось таким же, каким сохранилось у меня в воспоминаниях почти сорокалетней давности. Через несколько месяцев, 17 июня 1978 года (в двадцать пятую годовщину восстания рабочих в ГДР), мой брат Хэл, который вышел на пенсию, проработав в Госдепартаменте США, приехал в Гарделеген со своей женой, и они сделали там несколько фотографий. Глядя на старые знакомые места, я поздравил себя с хорошей памятью. Вот и все.
Одиннадцать лет спустя, вскоре после падения Берлинской стены и объединения Германии, я ехал по делам из Берлина в Ганновер по недавно открытому шоссе. Я заметил знак поворота в Гарделеген и решил сделать крюк. Знакомые улицы, наш дом на Зандштрассе, школа, куда я ходил, и короткая центральная улица с магазинами, правда чуть потрепаннее и поменьше, чем я ее запомнил, как будто не изменились. Развалины церкви, не восстановленной после того, как американская бомба упала на нее за сорок семь лет до того, как гласила маленькая табличка. Коммунистическое правительство оставило ее как есть. Я не увидел ни знакомых лиц на улицах, ни знакомых имен на магазинах или даже в местной телефонной книге. Я, сделав несколько живописных снимков, вернулся в машину и уехал.
В марте 1993 года, через три года после той импровизированной поездки, мне пришел почтовый конверт с немецкой маркой. Это было письмо от мэра Гарделегена. Он приглашал меня посетить «места вашей юности» и предложил «взять с собой семью и стать гостями города, если, – писал он, – вы сможете забыть о былых ужасах и несправедливостях судьбы». Мой адрес ему дала некая госпожа Бунге.
Я выяснил, что мой брат Хэл без предупреждения заехал к этой Гизеле Бунге, которая в 1988 году собирала материалы об истории евреев Гарделегена, и Хэл организовал ей поездку в Вашингтон вместе с немецким министром иностранных дел Геншером вскоре после объединения. Я не был с ней знаком и не имел никакого желания возвращаться в Гарделеген. Я написал, что судьба была ко мне добра – пожалуй что добрее, чем к самим гарделегенцам. «Спасибо, господин мэр, за ваше приглашение, – писал я, – однако спасибо, нет».
Через несколько недель мне написала Гизела Бунге. Вдова лютеранского священника в возрасте семидесяти лет, она собирала информацию о еврейских семьях, которые когда-то жили в Гарделегене. Она готовила брошюру о гарделегенских евреях, в которой должны были упоминаться мои родители.
Гизела переехала в Гарделеген как жена священника во время советской оккупации Восточной Германии, и, когда она услышала о разрушенных надгробиях с надписями на иврите, сваленных на пустыре, ей стало любопытно. Мало-помалу она реконструировала историю этих надписей и пропавших евреев Гарделегена и начала разговаривать с теми, кто помнил о том, что произошло. Гизела написала, что даже сейчас, шестьдесят лет спустя, бывшие пациенты моих родителей приписывают им чудеса исцеления.
Гизела позаботилась о том, чтобы заброшенные надгробия отреставрировали и поставили на отдельном участке городского христианского кладбища. Также она собрала деньги на строительство памятника тем исчезнувшим душам, которые погибли и не оставили могилы. Она пригласила меня к себе и попросила помощи в работе над историей евреев Гарделегена.
Я не представлял себе, чего ожидать, но в конце концов решил приехать и договорился встретиться с Гизелой в Гарделегене. У нее оказались прямые белые волосы, она носила невзрачную темную одежду, которую предпочитают немецкие вдовы и жены священников. Она сразу же обращала на себя внимание своими ярко-голубыми глазами, прямой осанкой и сердечным радушием, с которым она встретила меня в доме ее дочери Евы Ройшль.
На следующее утро Гизела отвела меня к нашему старому дому, где теперь жило несколько семей. Бледное пятно на штукатурке отмечало место, где пятьдесят лет назад висела табличка с именем моего отца, и на дверной раме остался маленький прямоугольник, где раньше был светящийся ночной звонок. В то время светящийся звонок был чем-то невиданным! В вестибюле был гладкий, полированный бетонный пол, выкрашенный красной краской, которым так гордилась мама. В моей старой комнате я нашел замочную скважину, в которую мы с братом подглядывали за голыми горничными, когда те мылись. Потом мы зашли на христианское кладбище, и я увидел надгробие нашего соседа-еврея. Я вспомнил, как шел через весь город на его похоронах за катафалком, когда мне было десять.
На кладбище мне вспомнились мемуары моего отца, которые он начал писать в Америке в 1943 году. Местная полиция арестовала его 10 ноября 1938 года – наутро после «Хрустальной ночи». Когда его везли в концлагерь в Бухенвальде, охранники, все его бывшие пациенты, шептали ему в ухо, что это приказ, что у них нет выбора. Для моего отца – законопослушного немецкого еврея – сопротивление представителям государства тоже было немыслимым делом. Тюремщики и жертвы одинаково были верными слугами власти, которая произвольно арестовывала людей, и не только. Отец поцеловал мать и молча ушел. Она кричала полицейским, чтобы они ее забрали тоже.
Отец в своих записках говорил, что в концлагере любое сопротивление или непослушание начальству означало пытку или смерть. Он рассказывал, что большинство заключенных стоически переносили свои невзгоды, но некоторые старались добиться лучшей участи, стуча на товарищей по несчастью. Тюремщики использовали их, а потом выбрасывали, как использованную туалетную бумагу. Никто даже не думал сопротивляться такому извращению государственной власти, потому что Гитлер возвел антисемитизм в закон, которому следовало подчиняться. В основе культуры немецких евреев лежало стремление быть образцовыми гражданами; учитывая, чему их учили всю жизнь, сопротивление для них означало восстание против государства. Они не могли и подумать о том, чтобы не подчиниться власти!