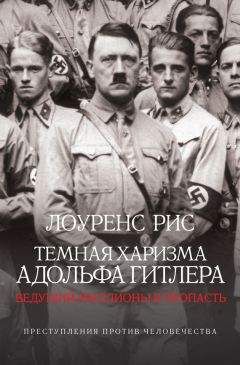Немцы (и не только они) были уверены, что Советский Союз будет быстро разгромлен. Как сказал профессор сэр Ян Кершоу: «Гитлер считал, что вторжение займет пять месяцев, Геббельс полагал, что хватит и четырех, а некоторые генералы были уверены, что понадобится еще меньше времени. Можно было бы списать это на немецкое групповое помешательство. Однако по данным американской разведки вторжение и вовсе должно было занять от трех до шести недель, поскольку Красная Армия серьезно проигрывала вермахту в плане позиционирования войск. Английская разведка также считала победу немцев в Советском Союзе предрешенной»‹1›.
Сегодня, зная, какие громадные промышленные и человеческие ресурсы мог мобилизовать Советский Союз, уверенность в падении режима Сталина, бытовавшая в рядах как союзников, так и немцев, кажется нам совершенно непонятной, а проведенный ими анализ — крайне поверхностным. Однако их уверенность в быстрой победе немцев базировалась на том, что по тем временам казалось рациональным расчетом. Мы знаем, что тогда общепринятым было мнение, в соответствии с которым чистки, проведенные Сталиным в рядах Красной Армии в 1930-е, значительно ее ослабили. В качестве примера данного ослабления приводилась неудача Советского Союза в Финской войне. Но за каждым из этих внешне рациональных мнений стоял элемент предубеждения. Многие ключевые фигуры на Западе презирали советский режим и готовы были поверить любым очерняющим его фактам. Достаточно вспомнить риторику, бытовавшую в Америке в 1941 году, — риторику, которую Рузвельт предпочел благополучно забыть к началу Тегеранской и Ялтинской конференций. Беннет Кларк, сенатор от штата Миссури, однажды даже сказал: «Пусть они хоть сожрут друг друга. У Сталина руки в крови не меньше, чем у Гитлера. Не думаю, что нам стоит помогать кому-нибудь из них»‹2›. А один из высокопоставленных британских генералов написал в своем дневнике от 29 июня 1941-го: «Я бы не стал употреблять слово „союзники“ в отношении русских. Среди них куча гнусных воров, убийц и отъявленных мошенников»‹3›.
Что же касается победы немцев во Франции, то здесь союзники объясняли все военным мастерством вермахта — этой «ужасающей военной машины», как описал его Черчилль в своей речи от 22 июня 1941-го, а никак не некомпетентностью британцев и французов. Черчилль говорил о «механизированных армиях», которые Гитлер послал в Советский Союз, забывая при этом, что во время вторжения во Францию английская и французская армии были гораздо более механизированы, чем германская. Реакция командования союзников вполне объяснима: гораздо предпочтительнее говорить о силе противника, чем о собственных ошибках, однако результатом подобного подхода стала переоценка оснащенности германской армии.
В первые дни войны, когда три основные ударные силы вермахта — группы армий «Север», «Центр» и «Юг» — стремительно продвигались по советской территории, казалось, что прогноз относительно их легкой победы над Красной Армией сбывается. Петер фон дер Гребен, в то время молодой майор, вспоминал, что «все считали, что война закончится к Рождеству»‹4›. Карлхайнц Бенке, служивший в рядах танковой дивизии СС «Викинг», как и его сослуживцы, был уверен в том, что «победа будет одержана так же быстро, как и во Франции, и что, достигнув Кавказа, германская армия откроет себе плацдарм для вторжения в Турцию и Сирию. Таковы были настроения в то время… Мы мечтали о сражениях, и 22 июня стало для нас шансом продемонстрировать свою доблесть, завершив на Востоке то, что наши товарищи начали ранее. Мы ожидали блицкрига. Мы были молоды — семнадцати-восемнадцатилетние юноши — и отправлялись на войну с довольно беззаботным настроем. Мы считали, что возьмем советскую территорию под свой контроль за четыре-пять месяцев — как раз к началу зимы. Так считали все. И начальные успехи убедили нас в нашей правоте. Вначале русские пограничные укрепления не могли сдержать нашего натиска, мы брали в плен тысячи русских солдат и, казалось, что эта громадная империя падет в считаные недели — максимум месяцы, — и наша цель будет достигнута»‹5›.
Через неделю немцы уже готовы были брать Минск, столицу Белоруссии. Казалось, что 2-я танковая группа Гудериана повторяет успехи, достигнутые во Франции, если ни превосходит их, поскольку за пять дней немцы продвинулись на двести миль в глубь территории Советского Союза. В самой Германии это воспринималось как подтверждение того, что победа будет легкой и быстрой. «Мы ожидали, что уже через несколько недель увидим кинохронику с поющими и приветственно машущими солдатами победоносной германской армии, — вспоминает Мария Маут, бывшая тогда студенткой. — Мнение о том, что война была пустяковым делом, распространялось как инфекция! И это вполне вписывалось в рамки нацистской пропаганды. Все, что говорил фюрер, было истиной в последней инстанции. И я убеждена, что 90 процентов людей верили в это. Я сама верила на протяжении долгого времени. Черт возьми, я верила в то, что он уже достиг многого. И это было так. Он действительно достиг многого»‹6›.
Генерал Франц Гальдер разделял энтузиазм большинства немцев. В своем дневнике 3 июля 1941-го он писал: «Полагаю, что не будет преувеличением сказать, что русская кампания будет выиграна в течение двух недель»‹7›. Но даже в этой высокомерной записи Гальдер счел нужным уточнить, что важно не дать противнику «воспользоваться его производственными центрами для создания новой армии с помощью гигантского промышленного потенциала и неисчерпаемых человеческих ресурсов».
Немцы знали, что им нужно не просто победить Советский Союз. Им нужно было одержать победу быстро. Советские промышленные ресурсы были нужны Германии для войны с Западом, чье техническое оснащение постоянно улучшалось. 26 июня 1941 года, всего лишь за неделю до прожектерского заявления Гальдера о победе в русской кампании, фельдмаршал Эрхард Мильх, близкий соратник Геринга и «генерал-инспектор авиации», во время встречи высшего военного командования заявил, что «суммарное производство [самолетов] в Англии и США уже 1 мая 1941-го превзошло суммарное производство в Германии и Италии, и, учитывая нынешнее состояние германской промышленности, к концу 1942-го превзойдет его вдвое»‹8›. Следует помнить, что Мильх дал столь пессимистичную оценку еще до формального вступления Америки в войну.
К концу лета 1941-го Гитлер и его генералы начали осознавать, что их самоуверенность, подогретая быстрой победой во Франции, сделала их неготовыми к трудностям, с которыми они столкнулись в борьбе с Красной Армией. 11 августа Гальдер написал: «С каждым днем ситуация все больше и больше доказывает, что мы недооценили русского колосса… Время играет им на руку, поскольку их ресурсы находятся у них под рукой, а мы уходим от наших все дальше и дальше»‹9›. К концу августа проблемы с ресурсами стали настолько серьезными, что, потеряв 400 000 человек личного состава, вермахт смог заменить немногим более половины‹10›.
Ситуация обострялась еще и конфликтом, вспыхнувшим между Гитлером и его генералами с самого момента принятия решения о нападении на Советский Союз. Разногласия были вызваны спорами о том, насколько приоритетным для вермахта должно являться наступление на Москву. Гальдер и многие его коллеги считали это абсолютным приоритетом, в то время как мысли Гитлера были заняты разрушением Ленинграда и наступлением на крымском и кавказском направлении. Наступление на советскую столицу его мало интересовало. В середине августа Гальдер выпустил меморандум, в котором требовал немедленного наступления группы армий «Центр» на московском направлении. Но генерал Альфред Йодль, начальник оперативного управления Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии (ОКВ), считал важным сохранение веры в правильность суждений Гитлера. Когда 20 августа 1941-го один из офицеров Гальдера потребовал от Йодля поддержать идею наступления на Москву, тот ему ответил: «Нам не следует вынуждать его [Гитлера] к поступкам, которые будут идти вразрез с его собственными убеждениями. Его интуиция никогда нас не подводила»‹11›. (При этом следует помнить, что уверенность во «внутренних убеждениях» и «интуиции» лидера является одной из аксиом харизматического правления.)
Результатом этого спора стала вышедшая 21 августа директива Гитлера, в которой подтверждалось, что захват Москвы до начала зимы не входит в число ключевых приоритетов и что командованию следует сконцентрироваться на оккупации Крыма и продвижении к нефтяным месторождениям Кавказа. Гальдер был в ярости. Он писал, что во всех последующих неудачах в кампании будет виноват‹12› лично Гитлер и что его отношение к высшему армейскому командованию возмутительно. Однако поведение Гальдера было неискренним, ведь еще в июле он заявлял, что «победа» будет достигнута в течение нескольких недель. Теперь же генерал явно не желал разделить ответственность за то, что силы противника были «недооценены». Обвинить Гитлера в том, что война пошла по незапланированному сценарию, было легко, но он был далеко не единственным, на ком лежала вина за то, что события приняли нежелательный оборот.