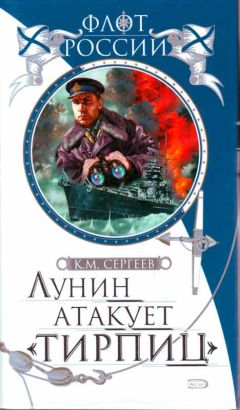Вот почему, анализируя сталинградское сражение, было бы куда более уместным и правильным говорить, прежде всего, о том, как немецкое высшее командование самым подлым образом надругалось над преданностью своих подчиненных – от простого солдата до генерала-фельдмаршала. Какой огромный капитал преданности и мужества был растрачен впустую!
Летописец Сталинградской битвы, кто бы он ни был, обязан основной упор сделать на то, что немецкое верховное командование ради достижения в высшей степени сомнительной цели предало своих солдат и обрекло их на неминуемую смерть на берегах Волги, что оно в нарушение принципов воинской этики злоупотребило доверием и беспрекословным повиновением людей, до конца исполнявших свой воинский долг, не щадя ни сил, ни жизни. Уйти от этого неопровержимого факта автор может, лишь фальсифицируя недопустимым образом сами понятия воинской доблести, долга и чести, лишая их какого бы то ни было положительного содержания и нравственного смысла. Нечего и говорить о том, сколь опасны и вредны подобные абстракции.
Читая мемуары Манштейна, и, прежде всего, их сталинградскую главу, трудно избавиться от впечатления, что в данном случае мы имеем дело как раз с такой сознательной попыткой фальсифицировать понятие воинской этики. В самом деле, уж не считает ли фельдмаршал, что под Сталинградом и вообще в минувшей войне мы сражались за святое и правое дело, не щадя ни сил, ни самой жизни в борьбе за высшие нравственные идеалы, как того требовала наша солдатская честь?! Нет, автор этих строк и многие его товарищи в Сталинградском «котле» осознали до конца всю жестокость судьбы, разуверившись в том, что они кладут свои жизни на алтарь отечества, защищая свой народ. Трагедия, непосредственными участниками которой мы были, слава богу, раскрыла нам глаза на все происходившее в Германии и за ее пределами, рассеяла наши заблуждения и заставила трезво взглянуть на вещи. Смутные подозрения, которые многие из нас до тех пор так или иначе старались заглушить, переросли в твердую уверенность в том, что сталинградское побоище было расплатой за политические злодеяния, логическим результатом захватнической и несправедливой войны, развязанной Гитлером. И десятки тысяч солдат проклинали в те дни Гитлера и послушных ему высших военачальников.
Казалось бы, фельдмаршал фон Манштейн, талантливый полководец, занимавший столь высокий пост и лучше других знавший, каковы были подлинные причины сталинградской трагедии, должен был одним из первых сделать для себя политические выводы и воспротивиться воле диктатора.
Выше уже говорилось о том, что он отказался от участия в Сопротивлении. Пытаясь оправдаться, фельдмаршал пишет по этому поводу в своих мемуарах, что в тот момент (и это уже в 1944 году!) он, к сожалению, оказался не в состоянии до конца убедиться в «моральной деградации всего режима» и «распознав подлинную натуру Гитлера»{113}. Пусть так. Но он, во всяком случае, на собственном опыте убедился в том, что «под Сталинградом безответственность и невежество „величайшего полководца всех времен“, которому он сам, германский фельдмаршал, служил верой и правдой, привели нас к не виданному в истории поражению. Однако и после этого Манштейн не осознал лежащую на нем ответственность. Причиной тому его аполитичность и холодное, „пустое сердце“, однажды уже побудившее его поставить свою подпись под позорным приказом по армии, противоречившим безупречным прусским боевым традициям{114}. Если уж Манштейн и впрямь не считал себя вправе оспаривать военно-политические решения Гитлера, то неужели он не понимал, что политический руководитель, вмешиваясь в его распоряжения и срывая его планы, незаконно присваивает себе функции верховного главнокомандующего?
Заблуждение и сознательный самообман завели фельдмаршала в тупик. Окончательно запутавшись, не сумев провести границу между превратностями судьбы и ответственностью полководца, он все глубже погружался в трясину бесчестья и не сберег своей боевой славы и доброго имени. Бодо Шойриг писал об этом так: «… Раковая опухоль уже расползлась по всему организму, и симптомы ее проявлялись и в той сфере, где Манштейн пользовался непререкаемым авторитетом. И здесь диагноз больше не вызывал сомнений: разложение прогрессировало. Казалось бы, военная верхушка должна была призвать к свержению политического руководства хотя бы уже потому, что преступная клика, стоявшая во главе государства, подрывала его вооруженные силы – губила солдат, тех самых солдат, за судьбу которых Манштейн, как он подчеркивал это не раз, считал себя полностью ответственным. Но могла ли Германия рассчитывать на благополучный исход войны, если Гитлер, не встречая сколько-нибудь серьезного противодействия, расшатывал вермахт, от которого, по мнению самого фельдмаршала (и не только его одного), в тот момент зависело все?! Поскольку Манштейн не мог не видеть этого, остается лишь сделать вывод, что он не считал себя связанным какими-либо моральными обязательствами и принципами воинской этики. Фельдмаршал, судя по всему, не в состоянии был даже понять, что, поставив себя выше этих нерушимых принципов, он отрекается от традиций, в которых он сам был воспитан и которым был обязан всем!»{115}
Нестерпимая фальшь Фермопильской аналогии
В наши дни вряд ли кто-нибудь усомнится в том, что битва на Волге была своего рода генеральной репетицией полного политического, идеологического и морального крушения нацизма. Тем более тягостное недоумение вызывает в связи с этим эпиграф к сталинградской главе «Потерянных побед». Просто диву даешься, как решился Манштейн предпослать этой главе гордую надпись на могиле спартанского царя Леонида и трехсот его воинов в Фермопильском ущелье: «Путник, если ты придешь в Спарту, скажи, что мы пали здесь, как повелел закон».
Шиллер считал эту эпитафию «прекраснейшей в своем роде» и назвал ее «благородным памятником в честь гражданской добродетели». Но приводить это древнее изречение в связи с катастрофой на Волге совершенно неуместно и бестактно. Более того, подобную героизацию можно расценить лишь как вредоносную попытку затушевать и свести на нет подлинное значение сталинградской трагедии как великого исторического урока. В самом деле, какой закон повелел немецким солдатам умирать на берегах Волги?
Я вспоминаю насквозь лживую «панихиду по живым», которую Геринг произнес 30 января 1943 года, В ней он говорил о неумолимом законе войны, о «чести немецкого народа» и превозносил агонию 6-й армии как «беспримерный героизм». Помню я и то, с каким возмущением восприняли мои товарищи эти напыщенные славословия, расценив их как дешевую пропаганду.