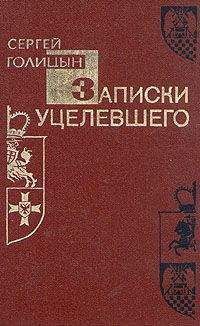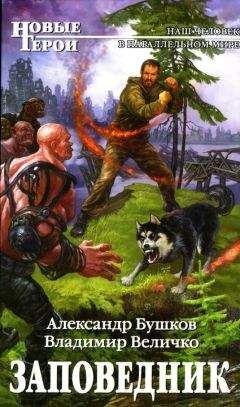Утром проснулся рано, меня разбудили детки (мои двоюродные) — кудрявые, хорошенькие, одни темные, другие светлые. Стоя в одних рубашонках, они обступили мое ложе на полу и пихали на меня стройную английскую гончую собаку.
Обстановка квартиры Трубецких была обычной для обстановки бывших людей, самая простая мебель — шкаф, стол, табуретки, лавки перемежались с мебелью красного дерева, но поломанной. На стенах висели изящное, овальной формы, зеркало, охотничье ружье в добротном чехле с инкрустациями и большой портрет прабабушки — дочери фельдмаршала Витгенштейна в тяжелой золоченой раме.
После завтрака старшие дети Гриша и Варя повели меня к Истоминым, которые жили в той же слободе Красюковке, но на другой улице. С Сергеем Истоминым я еще раньше подружился. Мне очень нравился этот живой, черноглазый, смуглый мальчик, по-цыгански красивый, рыцарски-благородный. С утра до вечера с ним и с его младшей сестрой Ксаной мы запоем играли в карты, в другие игры, по вечерам Петр Владимирович рассказывал своим ровным, почти без интонаций голосом о прошлом, о людях, которых знал. Он был очень умен, и я впитывал его рассказы с интересом, проникаясь к нему большим уважением.
Сергей Истомин подружился с дядей Владимиром и постоянно бегал к нему. По вечерам, когда дядя Владимир шел в кино играть на пианино, Сергей его сопровождал и на правах родственника смотрел бесплатно два-три сеанса подряд. И я однажды так побывал в кино. А еще Сергей ходил с дядей Владимиром на охоту. На одну такую прогулку дядя Владимир с ружьем, гончий выжлец Орел и мы, два мальчика, отправились.
Впервые в жизни я попал в хвойный еловый лес зимой. Дядя Владимир показывал нам многочисленные следы зверей и птиц на снегу — заячьи, лисьи, собачьи, то и дело попадались янтарные кучки зернышек помет рябчиков и тетеревов, снегири ворошили на дорогах конский навоз. Тогдашний зимний лес был полон жизни, а теперь снег в лесу лежит белый-белый, никаких следов, никаких кучек помета нет.
Не помню, убили ли мы тогда кого-либо. За рябчиками дядя Владимир не охотился, а зайцев нам не попадалось. Зато я запомнил красоту леса — елки, осыпанные снегом, синие тени на снегу и то наслаждение лесной красотой, которое охватило моего дядю и передалось нам…
Побывали мы с Сергеем в Троицкой лавре. Впервые я увидел великолепный архитектурный ансамбль монастыря, основанного великим святым Древней Руси преподобным Сергием, благословившим князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Историк Ключевский писал: покуда неугасимая лампада будет гореть у раки Святого, будет и Русь жива.
В первые годы революции лампада погасла, монахов разогнали, монастырь был превращен в музей, а мощи святого Сергия, раскрытые, оскверненные, остались в запечатанном Троицком соборе начала XV века. Знаменитый иконостас, расписанный Даниилом Черным и Андреем Рублевым, был недоступен для народа.
С большим интересом я ходил по сводчатым палатам музея, смотрел старинные драгоценные предметы церковной утвари, усеянные жемчугами, изумрудами, сапфирами, бирюзой. Все драгоценные вклады, начиная со второй половины XVIII века, были изъяты якобы "для голодающих", а старина церковные сосуды, шитые пелены, иконы, ризы — осталась. И всех тех богатств было тогда много больше, нежели теперь. Как видно, и в тридцатые годы и в послевоенные ценнейшее достояние русского народа уплывало за границу.
Научный руководитель музея граф Юрий Александрович Олсуфьев — живой, невысокий человек с бородой, с живыми глазами — встретил нас, двух мальчиков, очень любезно. Сергей меня ему представил, он мне подал руку, будто взрослому, и повел показывать.
Не все монахи были изгнаны из Лавры. В каждой музейной палате сидело по иноку-сторожу, музейные работники вполне могли на них положиться. А палаты были нетопленные, там стоял мороз более лютый, чем на улице. Мы с Сергеем ходили без шапок до тех пор, пока один из монахов не сказал нам, что мы можем надеть шапки, иначе простудимся. Да, конечно, ведь святость из Лавры ушла.
Несколько раз в те дни мы отправлялись на церковную службу в храм на той же Красюковке, к обедне и ко всенощной. А однажды ко всенощной под старый Новый год пошли в Гефсиманский скит. Так назывался филиал Лавры, еще действующий небольшой монастырь.
Всего скитов было четыре. Кроме Гефсиманского, действующим оставался самый дальний, с очень строгим уставом скит Параклит, находившийся за восемь верст, куда женщины не допускались.
Ближайшие, в двух-трех верстах, были скиты: Киновия — с небольшой белой шатровой колокольней и Черниговский — с массивным пятиглавым собором и высокой колокольней из красного кирпича. В них обоих помещался дом для престарелых.
Гефсиманский скит был окружен лесом. За каменной оградой высился розовый с белым одноглавый храм XVIII века. Вечерело. Мы прошли сквозь тяжелые железные ворота внутрь скита, вошли в храм.
Молящихся было много. Женщины, молодые, а больше старые, в тот год впервые получили разрешение войти в скит; они теснились толпой. Длиннноволосые монахи стояли отдельно, иные совсем древние, седобородые, иные молодые, с черными и русыми бородами, такие, как на этюдах Корина. Два хора монахов пели молитвы на правом и на левом клиросах. Сотни свечей, разноцветные лампады освещали молящихся. Сергей показал мне схимника, стоявшего отдельно, его лицо было укрыто клобуком, виднелась только седая взлохмаченная борода, на его черной рясе, как на одеждах схимниц с этюдов Корина, были вышиты крупными серебряными буквами череп с костями и слова молитвы — "Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас!"
Я впервые попал в монастырь. Служба тянулась долго и утомительно, от множества свечей, лампад, от дыхания богомольцев было душно, но я терпеливо стоял, слушал протяжное пение монахов.
Все случайное, наносное ушло из монастырских стен, а остались те иноки, которые ради прославления имени Христова готовы были идти на любые страдания. Они стояли и низко кланялись, шепотом повторяли молитвы.
Служил сам наместник Лавры отец Израиль — в черной, с золотом, ризе, почтенный, полный, еще бодрый старец с пышной бородой. Он служил вдохновенно, слова молитвы произносил четко. Великая ответственность лежала на его плечах: суметь продержаться в скиту как возможно дольше, уберечь доверившихся ему иноков от земных соблазнов, разговаривать с властями с достоинством, высоко держать знамя православия и знать, что рано или поздно отца неминуемо ждут тягчайшие муки…
Увы, каникулы кончились. Пора было возвращаться в Москву. Проводили меня Истомины до вокзала, тогда здание было маленькое, деревянное, посадили в промерзший вагон. Встретился им знакомый монах, он и я заняли места на скамьях напротив друг друга, и, пока в Пушкине не подсели другие пассажиры, мы разговаривали на богоугодные темы. На прощание, уже на платформе Ярославского вокзала, монах мне сказал что-то очень хорошее, и я расстался с ним в самом благостном настроении.