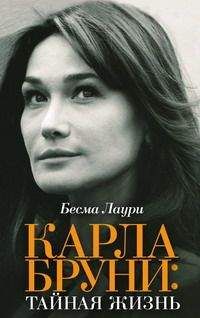Долго ль еще нам ходить по гроба,
Как по грибы деревенская девка?..
«Дикая кошка – армянская речь…», 1930
Речь в этом эпизоде идет о супругах Овчинниковых. Жили они в Большом Власьевском переулке (см. «Список адресов»).
В характеристиках воды Арзни: «хорошая, КоЛЮЧая, сухая» «спрятался» «ключ», слово «колючая» передает не только вкусовые ощущения, но и содержит в свернутом виде определение «ключевая». «Милый кодак» – глаз сравнивается с фотоаппаратом, «сетчатка голодна»: речь идет о той же жажде видения, что и в «Канцоне». «Хрусталик кравчей птицы» – острое зрение; вероятно, имеется в виду орлиный глаз. Орел – Зевсова птица; должности виночерпия и кравчего нередко отождествляются. (Кравчий в допетровской Московии ведал царским столом.) На пиру богов роль виночерпия, согласно греческой мифологии, исполняла Геба, дочь царя богов Зевса, а позднее – Ганимед. Возможна связь мандельштамовского образа с хрестоматийным стихотворением Ф. Тютчева «Весенняя гроза», где мы встречаем Гебу рядом с орлом: «Ты скажешь: ветреная Геба, / Кормя Зевесова орла, / Громокипящий кубок с неба, / Смеясь, на землю пролила!» Мандельштамовские стихи написаны в день рождения Пушкина, и четвертая часть «Отрывков» отражает, несомненно, раздумья Мандельштама о своем месте в русской поэзии (ср. с пушкинским «Пророком»).
Кавказские впечатления отразило и написанное в июне 1931 года стихотворение «На высоком перевале…». Есть основания полагать, что поэт работал над этими стихами в Старосадском переулке – на это указывает комментарий Н.Я. Мандельштам: «Стихи о Шуше написаны в Москве летом 31 года, когда мы жили в комнате у Александра Эмильевича (он уехал в отпуск с женой)…» [214]
На высоком перевале
В мусульманской стороне
Мы со смертью пировали —
Было страшно, как во сне.
Нам попался фаэтонщик,
Пропеченный, как изюм, —
Словно дьявола поденщик,
Односложен и угрюм.
То гортанный крик араба,
То бессмысленное «цо!» —
Словно розу или жабу,
Он берег свое лицо.
Под кожевенною маской
Скрыв ужасные черты,
Он куда-то гнал коляску
До последней хрипоты.
И пошли толчки, разгоны,
И не слезть было с горы —
Закружились фаэтоны,
Постоялые дворы…
Я очнулся: стой, приятель!
Я припомнил, черт возьми!
Это чумный председатель
Заблудился с лошадьми.
Он безносой канителью
Правит, душу веселя,
Чтоб вертелась каруселью
Кисло-сладкая земля…
Так в Нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше,
Я изведал эти страхи,
Соприродные душе.
Сорок тысяч мертвых окон
Там видны со всех сторон,
И труда бездушный кокон
На горах похоронен.
И бесстыдно розовеют
Обнаженные дома,
А над ними неба мреет
Темно-синяя чума.
12 июня 1931
Приведем краткий комментарий М.Л. Гаспарова. Речь в стихотворении идет «о возвращении из поездки в Нагорный Карабах, из г. Шуши (разоренного турками во время резни 1920 года) в Степанакерт; фигура безносого фаэтонщика ассоциируется с председателем и с негром-возницей из пушкинского “Пира во время чумы” (а размер стихотворения – с “Бесами”) и приводит к мысли “мы ничего не знаем о тех, от кого зависит наша судьба” (слова ОМ в пересказе НЯМ). “Словно розу или жабу” – образ из стих. Есенина “Мне осталась одна забава…”» [215] . (ОМ в комментарии – Осип Мандельштам, НЯМ – Надежда Яковлевна Мандельштам.) «Встреча по дороге из Шуши с мирным стадом, после которой прошел охвативший путешественников страх» (М. Гаспаров, там же) осталась в июньском стихотворении «Как народная громада…».
Как народная громада,
Прошибая землю в пот,
Многоярусное стадо
Пропыленною армадой
Ровно в голову плывет.
Телки с нежными боками
И бычки-баловники,
А за ними – кораблями —
Буйволицы с буйволами
И священники-быки.
У Мандельштама в Старосадском переулке бывали его друг биолог Б.С. Кузин, филолог Эмма Герштейн, впоследствии известный литературовед, поэты Семен Липкин и Борис Лапин. Эмма Герштейн вспоминала: «Я была в Старосадском, когда к Мандельштаму прибежал Борис Лапин. <…> Тут Осип Эмильевич прочел ему свою “Канцону”» [216] . В свою очередь, Лапин рассказал Мандельштаму о полете на самолете, делавшем «мертвую петлю». По свидетельству Н. Мандельштам, этот рассказ отразился в написанном 23 апреля 1931 года стихотворении.
– Нет, не мигрень, но подай карандашик ментоловый, —
Ни поволоки искусства, ни красок пространства веселого!
Жизнь начиналась в корыте картавою мокрою шёпотью
И продолжалась она керосиновой мягкою копотью.
Где-то на даче потом в лесном переплете шагреневом
Вдруг разгорелась она почему-то огромным пожаром сиреневым…
– Нет, не мигрень, но подай карандашик ментоловый, —
Ни поволоки искусства, ни красок пространства веселого!
Дальше, сквозь стекла цветные, сощурясь, мучительно вижу я:
Небо, как палица, грозное, земля, словно плешина, рыжая…
Дальше – еще не припомню – и дальше как будто оборвано:
Пахнет немного смолою, да, кажется, тухлою ворванью…
– Нет, не мигрень, – но холод пространства бесполого,
Свист разрываемой марли да рокот гитары карболовой!
Ментоловым карандашом натирали виски, чтобы избавиться от головной боли.
Возможно, в стихотворении идет речь о потерпевшем аварию летчике, в сознании которого проносятся картины промелькнувшей жизни, начиная с раннего детства. Специфический резкий запах больничной карболки сравнивается с наплывающим гитарным аккордом. (Как указывает А.Г. Мец, в стихах отразились «впечатления от больницы, куда поэт приходил навещать заболевшую жену» [217] .) Небо в поэтическом мире Мандельштама по большей части враждебно человеку или безучастно к нему, ему присущ «холод пространства бесполого», холод смерти. В стихотворении о Нагорном Карабахе над разоренным, подвергшимся страшному погрому городом «неба мреет / Темно-синяя чума». Мандельштам с интересом следил за развитием авиации; ее растущая военная мощь, не представимые ранее возможности тотального разрушения им хорошо осознавались. «Крыла и смерти уравнение» – писал он о военной авиации в 1923 году («Опять войны разноголосица…»); в «Стихах о неизвестном солдате» (1937–1938) небо XX века характеризуется как «неподкупное небо окопное – / Небо крупных оптовых смертей…». Рассказ Б. Лапина получил отражение и в «Путешествии в Армению»: в главе «Москва» упоминается разговор «об авиации, о мертвых петлях, когда не замечаешь, что тебя опрокинули, и земля, как огромный коричневый потолок, рушится тебе на голову».
«В начале лета Шура с женой уехали на полтора или два месяца на юг, – пишет в своих мемуарах Н.Я. Мандельштам, – а я переселилась к Мандельштаму в убогую комнатенку на Старосадском переулке. Пиршество продолжалось уже не только по ночам, но и днем, а стихи стали длиннее – они уже не спрессовывались ночным бдением» [218] . Согласно летописи жизни и творчества Мандельштама, Н. Мандельштам перебралась в Старосадский несколько ранее, а отпуск у А.Э. Мандельштама был короче: «23 мая. О.М. и Н.Я. поселяются в комнате брата в Старосадском переулке (А.Э. с женой уехали на месяц в отпуск)» [219] . «Мы были подвижными и много гуляли, – продолжает Н. Мандельштам. – Все, что мы видели, попадало в стихи: китайская прачечная, куда мы отдавали белье, развал, где мы листали книги, еще не покупая из-за отсутствия денег и жилья, уличный фотограф, щелкнувший меня, Мандельштама и жену Шуры, турецкий барабан и струя из бочки для поливки улиц. Возвращение к стихам привело к чувству единения с миром, с людьми, с толпой на улицах…» [220] «Турецкий барабан» мы находим в приведенных выше «Отрывках уничтоженных стихов», «вода на булавках» из поливальной машины упомянута в более позднем стихотворении «Там, где купальни, бумагопрядильни…». Фотография, сделанная уличным фотографом, сохранилась. Она относится к несколько более раннему времени: Мандельштам, Надежда Яковлевна и Элеонора Самойловна, жена Шуры, еще в зимней одежде. Вероятно, именно к этой фотографии обращено шуточное стихотворение Мандельштама: