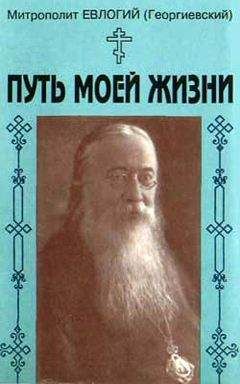Если некоторые члены Думы не скрывали своего враждебного отношения к Церкви, то случалось, что и левые вызывали чувство непреодолимой неприязни среди депутатов-священников. Однажды оно проявилось в недопустимой форме. Произошел инцидент с сибирским депутатом Карауловым. Он отбыл в свое время каторгу по политическому делу. Когда он взял слово по какому-то вопросу и направился к трибуне, один священник крикнул: "Вот каторга пошла!" — "Да, каторга!.. — горячо заговорил Караулов. — Этими ногами я измерил "владимирку"… В освободительном движении, благодаря которому мы все здесь сидим, есть капля и моей крови…" Зал разразился рукоплесканиями. Всему думскому духовенству было очень неприятно от этой бестактной выходки своего собрата, о чем я от имени священников-депутатов заявил Караулову.
И все же, несмотря на разлад между Думой и Синодом, его смета хоть и с трудом, но принималась. Правда, в такой форме, что она более походила на уступку, которой добились, или милостыню, которую выпросили. Как я уже сказал, мне приходилось всегда произносить речь в защиту синодального бюджета, и этим зачастую пользовались мои противники, чтобы на меня напасть. Однажды моим выступлением воспользовались поляки.
В своей речи я спокойно, но энергично доказывал необходимость смету утвердить: "За мертвыми цифрами — живая жизнь… Кому Церковь не Мать, тому и Бог не Отец…" — убеждал я моих думских сочленов. Едва я кончил, как слово взял польский депутат Дымша. Он обрушился на несоответствие ассигновок на православные и католические храмы в Холмщине. К нападению он, видимо, хорошо подготовился: привел статистические данные. Его выступления я не ожидал, оно застало меня врасплох. Оставалось спасать положение при постатейном голосовании бюджета; я брал слово и старался моего противника дискредитировать. На общий вотум выступление Дымши не повлияло, но все же поляки в тот раз доставили мне большую неприятность.
Если Дума относилась к Синоду с недружелюбием, переходившим порой в ожесточение, то и Синод не проявлял по отношению к Думе должного понимания. Я лично постоянно это чувствовал. Будучи членом Думы, я одновременно входил и в состав Синода: в зимнюю сессию 1908 года и в зимнюю сессию 1912 года [37]. Просидишь, бывало, все утро в Синоде, а после двух часов едешь в Думу — и чувствуешь: антиподы! Торжественные кареты, величавые архиереи, вековые традиции… — особый стиль, особый мир. Тут на меня, на депутата, все смотрят как на выходца из преисподней, из места гиблого, нечистого. А примчишься, бывало, в Думу демократически, на извозчике, — приятели (Родзянко или кто-нибудь из "своих") встречают: "А… из Синода!" И чувствуешь, что кругом на тебя устремлены иронические взгляды депутатов, а подчас слышишь и язвительные шуточки.
Имела ли Дума основания относиться к Синоду пренебрежительно?
Приниженность Церкви, подчиненность ее государственной власти чувствовалась в Синоде очень сильно. Обер-Прокурор был членом Совета Министров; каждый Совет Министров имел свою политику, высшие сферы на нее влияли тоже, и Обер-Прокурор, не считаясь с голосом Церкви, направлял деятельность Синода в соответствии с теми директивами, которые получал. Синод не имел лица, голоса подать не мог и подавать его отвык. Государственное начало заглушало все. Примат светской власти подавлял свободу Церкви сверху донизу: архиереи зависели от губернаторов и должны были через священников проводить их политику… Эта долгая вынужденная безгласность и подчиненность государству создали и в самом Синоде навыки, искони церковным началам православия не свойственные — решать дела в духе внешнего, формального церковного авторитета, непререкаемости своих иерархических постановлений.
Помню тяжелый случай осуждения профессора Экземплярского (Киевской Духовной Академии), молодого либерально настроенного ученого. Он написал в журнале статью: "О нравственном учении св. Иоанна Златоуста". В ней он доказывал, что многие мысли Толстого и социалистов можно найти и у этого великого "отца Церкви". Киевский митрополит Флавиан приехал в Синод с донесением: автор непочтительно отзывается о св. Иоанне Златоусте, сравнивает его с недостойными сравнения именами и неуважительно относится к официальному богословию Киевской Духовной Академии, к ее традициям. Перед докладом он заявил, что прочтет его лишь при условии, если Синод заранее готов радикально осудить автора. Профессора Экземплярского уволили, не выслушав ни его объяснений, ни оправданий…
И все же попытки найти исход из создавшегося безвыходного положения были. Несколько раз поднимался в Синоде вопрос, чтобы первоприсутствующий член Синода делал доклад Государю хотя бы в присутствии Обер-Прокурора. Однако ничего из этого не вышло. Была еще одна попытка — добиться аудиенции у Государя для всех трех митрополитов, но и она была безуспешна. Церковь, безвластная и безгласная, должна была делать то, что ей прикажут. Публицист Меньшиков ("Новое Время") называл синодальных иерархов "декоративные старички". Свое уничиженное положение иерархи, конечно, и сами сознавали. "Учусь чистописанию — подписываюсь под протоколами, вот все мое занятие", — говорил один архиерей. Когда Обер-Прокурор был сравнительно приемлем и искал путей сближения с Церковью, Синоду бывало легче. Таковы были Извольский и Лукьянов. Извольский, впоследствии священник в Бельгии, был добрый, благожелательный. Профессор Варшавского университета Лукьянов, во всех отношениях порядочный человек, кристально чистой души, был тоже податливый. Он отличался педантизмом, и секретари его недолюбливали. Иногда он будил их в 3–4 часа утра и посылал в Синод за какими-нибудь понадобившимися ему из архива бумагами. К должности Обер-Прокурора был совершенно не подготовлен, ибо не знал ни Церкви, ни народа. Своему назначению он сам удивлялся, и когда кто-то его спросил: "Почему собственно назначили вас?" — добродушно ответил: "Сам не знаю, одно скажу: я усердный читатель и большой почитатель Владимира Соловьева". Конечно, этого было мало для обер-прокурорского поста…
Обер-Прокурор В.К.Саблер, напротив, прекрасно знал Церковь, любил ее и много работал для нее; но тут случилась другая беда: его имя в обществе и в Думе связывали с Распутиным. Необходимо сказать несколько слов о Распутине, потому что появление его в высших кругах русского общества углубило разлад между Думой и Церковью.
Распутина я никогда не видал, хоть и не раз имел возможность с ним встретиться, но от встречи с ним я всячески уклонялся.
Сибирский странник, искавший Бога и подвига и вместе с этим человек распущенный и порочный, натура демонической силы, — он сочетал поначалу в своей душе и жизни трагедию: ревностные религиозные подвиги и стремительные подъемы перемежались у него с падениями в бездну греха. До тех пор, пока он ужас этой трагедии сознавал, не все еще было потеряно; но он впоследствии дошел до оправдания своих падений, — и это был конец. Известность стяжал постепенно. Приехал в Казань к епископу Хрисанфу, тот рекомендовал его ректору Петербургской Духовной Академии епископу Сергию [38], а Сергий познакомил его с инспектором Академии архимандритом Феофаном (впоследствии епископ Полтавский) и профессором-стипендиатом молодым иеромонахом Вениамином (возглавлявшим в эмиграции "Сергиевскую" церковь). Архимандриту Феофану, человеку высокой подвижнической жизни, Распутин показался религиозно значительной, духовно настроенной личностью, и он вовлек в знакомство с ним Саратовского епископа Гермогена, который с ним и подружился. Архимандрит Феофан был духовником великих княгинь Милицы Николаевны и Анастасии Николаевны ("черногорок"); к ним Распутина он и привел, а они ввели его в царскую семью. Распутин какими-то способами облегчал страдания больного Наследника, это предрешило судьбу "целителя" — он стал большим, влиятельным человеком. Началось заискиванье. В синодальных сферах на него обратили внимание: Товарищ Обер-Прокурора Даманский стал его другом; Саблер, пребывавший дотоле в отставке, вновь занял пост Обер-Прокурора.