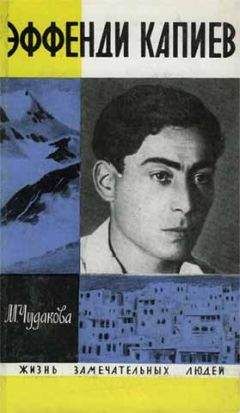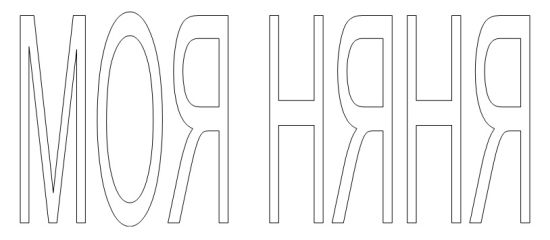Как разительно противостоят этой прозе хотя бы рассказы Бориса Житкова — те из них, где так слышна именно «устная» интонация, чей-то внятно, в голос звучащий рассказ, как бы с усилием втиснутый на бумагу, в порядок написанных, а не сказанных слов:
«Заторский что-то кричит на кенгуру — ничего за барабаном не слыхать, а кенгура на него хитро так и зло глядит и все кулачками шевелит. Дразнит. Уперлась хвостом в песок, хвост у нее мясистый, упористый — твердо стоит, проклятая».
Еще слышнее, громче эти живые голоса у Михаила Зощенко: «То, бывало, утром на работу уйдешь, вечером явишься, чай попьешь и спать. И ничего такого при керосине не видно было. А теперича зажгли, смотрю, тут туфля чья-то рваная валяется, тут обойки отодраны и клочком торчат, тут клоп рысью бежит — от света спасается, тут тряпица неизвестно какая, тут плевок, тут окурок, тут блоха резвится… Батюшки светы! Хоть караул кричи, смотреть на такое зрелище грустно».
Самые разные голоса современников, сердитые и увещевающие, агрессивные и смиренные, перебивающие друг друга, силящиеся выразить свое мнение и страстно желающие быть выслушанными, несмолкаемым хором звучат в рассказах Зощенко двадцатых-тридцатых годов, из прямой речи героев то и дело пробиваясь в речь самого автора и составив в конце концов единственную ее основу, далекую от ясности и стройности речевых форм прозы Олеши или прозы Капиева.
Эти живые, на устные формы русской речи ориентированные голоса Капиевым оставлены без внимания. «Классичность» письменной речи как нельзя более пришлась ему кстати. Как в своих переводах горских песен, добиваясь чистоты и правильности русского стиха, он избегал «русизмов» — слишком колоритных русских слов, слишком тесно связанных с особенностями жизни другого народа, — так и здесь, в прозе, он углублялся в русскую речь, минуя слишком просторечные, народные, диалектные ее ответвления, целиком оставаясь в пределах ровно окрашенного «книжного» ее тона. И слово «книжный» не должно, разумеется, здесь пониматься в каком-либо уничижительном смысле — как сухость или обесцвеченность языка, а в обычном филологическом, где книжная речь как литературно обработанная противостоит всевозможным разновидностям устной, еще не «отстоявшейся» и непригодной, скажем, для целей научного изложения.
Насколько охотно обращается Капиев к словам одной окраски, настолько же явно он сторонится других. Он описывал аул, Дагестан; его герой говорил, конечно, в книге по-русски, но никаких сомнений не было в том, что это говорит горец. Капиев хотел, сверх того, укрепить у читателя впечатление и об авторе как сыне горского народа, с радостью вступившем на почву русской речи, но не желающем играть роль человека, сменившего вместе с языком и национальность. В молодости он подумывал об этом. Собирался менять имя, фамилию. В зрелости эти мысли покинули его, как многие незрелые планы и увлечения покидают в эти годы человека.
…Когда после долгих перерывов приезжал он в Махачкалу, и пыльный, жаркий ветер налетал на него уже на перроне — все лица казались ему знакомыми.
Он был не чужой здесь. Он знал их, как знает сын своего отца, как брат знает брата, — с его достоинствами и слабостями, со всеми привычками, которые раздражают чужого и порою обременительны для своего. Он понимал их всех — и знакомых и незнакомых. Их слова, и жесты, и жестоковатый взгляд не были для него загадкой.
В новеллах «Поэта» автор не виден читателю; но в «Московском дневнике» он выступает из тени, начинает говорить и о себе, о своем детстве, впервые, по-видимому, вводя в русскую прозу и тему такого детства, и необычную литературную позицию русского писателя — сына горского народа…
«Падает снег… Сквозь его неторопливое кружение кажется мне, что я вижу сон о давно минувшем детстве. Накинув лохматую шубу, так же как Сулейман сейчас, сидит на тахте в полудремоте мой дед. Тень его, сутулясь. покачивается на потолке. Огромная папаха клонит голову деда на грудь. Но дед не спит: в сакле дымно, мать и сестра сидят у очага, готовя ужин.
— Ой-ой, мальчик, — говорит мне дед (голос его доносится едва-едва, заглушаемый даже треском светильника), — Москвой называется город в тридесятом Русском государстве…Кто может туда войти? Не видел, конечно, и ты не увидишь!..
— Подзорную трубу бы иметь! — восклицает дед в отчаянье. — Мы бы навели ее туда. (Он показывает пальцем вверх, словно в небо.) Мы бы навели ее и, может быть, узнали, сын мой, кто у них боги и рожают ли тамошние женщины детей, способных понять наш язык».
Но такие прямые напоминания о родословной автора в «Поэте» редки. Его литературная задача была сложней. В его прозе нет «русизмов», но в ней нет и специфически лакского, лезгинского и прочего языкового колорита, от которого мало кто удерживается, обращаясь к чужому материалу. Впрочем, может быть, оттого Капиеву и легко было удержаться от этого внешнего «своеобразия», что для него этот материал чужим не был. Когда подходит к аулу городской житель — серые, сложенные из тесаного камня дома кажутся ему крупнее и выше, чем видит их горец. Это оттого, что глаз горожанина привык к иному масштабу. Двери и окна в аулах делали много меньше, чем в городских домах, и от этой перемены пропорций непривычному глазу этажи кажутся выше, и сами дома будто увеличиваются в размерах…
Р. Фатуев вспоминает рассуждения Капиева: «Мне как горцу нельзя писать цветисто. У меня все должно быть просто и обыденно. Ты — другое дело. Русский, приехавший в горы, все видит иначе. Так же, как и горец, приехавший в Москву… В этом есть своя закономерность. Я буду брать незамысловатые сюжеты и рассказывать о вещах, совсем не экзотических и скучных… Но каждый читающий сразу обнаружит, что писаны они горцем… В самом отношении автора к вещам и явлениям, в показе психологии героев читатель уловит национальную принадлежность автора к одному из народов Кавказа (к лезгинам или лакцам — не имеет значения)».
Зато в разговорах его героев национальное уже прямо подчеркнуто и с удивительным мастерством «переложено» в формах русской речи.
Диалоги в прозе — это вообще особое, далеко не всякому дающееся уменье. И не всякий писатель даже большого таланта проявляет интерес к такой задаче, свободно чувствует себя в этой сфере. Иногда же писатель довольно скромных возможностей именно здесь проявляется наилучшим образом (интересны в этом смысле «деревенские» рассказы Пантелеймона Романова, имя которого теперь уже большинству читателей неизвестно).
У Капиева диалоги едва ли не полновесней, не богаче авторской речи. Впрочем, сравнение почти невозможно — столь разные языковые задачи поставил он перед собой в двух этих разных сферах, разных ликах своей прозы.