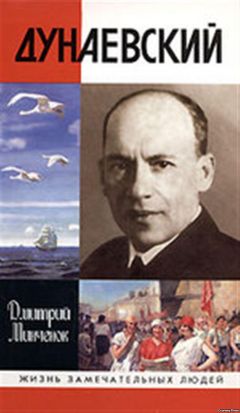Исаак даже узнал смешные подробности. Плёнки с фильмами везли на "кукурузнике" — почему, зачем, не знал. Может, так было быстрее и безопаснее. Да и что там было особенно везти — документальная лента "Челюскин" (музыку к которой он отказался писать), "Гроза" Островского режиссёра Петрова, "Петербургская ночь" Григория Рошаля и комедия "Весёлые ребята". Исаак, конечно, ждал отзывов на свою музыку. В Европе фильм назвали иначе, особенно не скрывая, что именно их интересует в этой варварской стране: "Москва смеётся". Уже само по себе слово Москва в сознании европейцев того времени звучало как Мозамбик. Или Папуа — Новая Гвинея. А ещё — "смеётся". Типа, над чем-то там смеются каннибалы — давайте посмотрим. Просоветски настроенная часть жюри восторженно отзывалась обо всех фильмах. Естественно, "Весёлые ребята" понравились больше всего.
Шумяцкий доложил Сталину об успехе. Наверняка сделал акцент на "Весёлых ребятах", хотя никаких подробностей Исаак не узнал. Отрывочные сведения ему пересказывал Нильсен, который был в тёплых отношениях с Шумяцким. Упомянул, наверное, что достоинства есть у каждой ленты, но "Весёлые ребята" — особенные, надеясь, что её создание вменят ему в заслугу. Знаете, как это бывает: ты что-то делаешь, и это становится одновременно и твоим проклятием и опорой.
Опорой была победа в Венеции, а проклятием — оценка на Родине. Сталин принял лестное сообщение о победе советского кино хорошо, но в скобках заметил: "Это, конечно, хорошо, что наше киноискусство побеждает, товарищ Шумяцкий, но было бы гораздо правильнее, если бы оно заграничной публике не нравилось, потому что это искусство пролетариата". Представляете? Вы отдаёте все силы картине, холите её и лелеете, выигрываете с ней международный приз, а вам говорят, что вы сволочь. Непонятно было, как расценил это заявление Шумяцкий: как выпад против себя лично или против картины. Это сейчас с расстояния в полвека тамошняя ситуация выглядит как очевидный выпад против начальника киноглавка. Только одних интервью на Западе вышло около ста — и все с Шумяцким. А сколько раз там было упомянуто имя Сталина — ни одного! Ну это, допустим, было преувеличение Мехлиса, но докладная записка такая существовала — Шумяцкий вовсю трубит о своих успехах и забывает, что это успех партии, а не его личный.
В общем, воды на мельницу вылили столько, что итог был печален. В Кинокомитете было решено: однозначной государственной поддержки картине не давать. А что это значит? Очень просто — нарком просвещения Бубнов в сентябре, давая интервью "Правде", публично обрушился на картину с резкой критикой, не забыв о своей вражде с Шумяцким. Вот вам и золотой фонд кино.
Что там было ещё?
Всё остальное — будни, про них даже не интересно рассказывать. С другой стороны, вся наша жизнь состоит из буден. А вас бы разве не взволновало, если бы вы подошли к дому, где вы прожили пятьдесят лет своей не самой трудовой жизни, а вам сказали, что только что дворник сиганул с крыши. Каково?
Когда уходят друзья по цеху — всегда становится страшно, как бы следующим в очереди на некролог не оказался ты. 14 октября 1934 года в театре Дунаевского встретили ошеломляющей новостью. Концертмейстер театра Яков Спивак отвёл его в сторону и заговорщически зашептал: "Слышали, что Собинов, возвращаясь из Риги, умер в поезде? Сердце". Про смерть всегда почему-то сообщают шёпотом, даже безотносительно к величию усопшего. А тут — великан. Трагедия. В эти дни в письмах Дунаевского мелькает фраза: "Устал. Нервничаю". Почему? Собинов был легендой. Его музыкальный дар был поистине даром — и вдруг небо забрало его к себе. Что это? Расплата или награда?
На следующий день Дунаевский прочёл об этом в "Известиях". Про поезд, правда, ничего не сообщали, просто написали, что Собинов умер в Риге. Как раз накануне Александров известил Дунаевского, что "Весёлых ребят" собираются везти в Ригу — показывать буржуям. Рижские прокатчики потребовали дать фильму другое, более коммерческое название — не "Москва смеётся", а ещё что-нибудь. Тогда Александров придумал название "Скрипач из Абрау". Откуда взялось Абрау, если фильм снимали в Гаграх? Виноградные лозы на берегу моря — о чём это, где? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно было вернуться на тридцать лет назад и вспомнить вкус Абрау-Дюрсо. Запад помнил пузырьки шампанского на губах времени. Зрители стихали, вспоминая что-то знакомое. Шампанское пьянило, а прочее никого не волновало. То, что в начале фильма в первых кадрах мелькали абхазские остроконечные корзины для сбора винограда, никого не смущало. Тень скрипача из Абрау всё искупала. В кассы выстраивалась очередь. Потрясающе, но "Скрипач из Абрау" шёл на русском языке и никто, никто не требовал перевода. В общем, кино пошло. Кинотеатров в Риге было много, самым престижным и роскошным считался "Сплендид-Палас", нынешняя "Рига". Более демократичным был "Метрополь" — он располагался на месте нынешнего "Вернисажа". Здесь в 1934-м рижане и увидели впервые "Весёлых ребят". В репертуаре постоянно шёл "Броненосец Потёмкин" — видимо, в честь Сергея Эйзенштейна. Даже спустя семь лет после того, как появились звуковые фильмы, немые продолжали крутиться, и на них шёл зритель. Тапёры по-прежнему играли — когда на экране стреляли, тапёр играл что-то особенно шумное. Прямо во время сеанса по залу бегали крысы — зал находился в подвальном помещении… Григорий Александров мог быть счастлив. Его фильм шёл в одной линейке с фильмом учителя. Это ли была не победа, дорогие мои?
Но Дунаевский ещё ничего об этом не знал. Он сидел в Ленинграде, пил чай и хотел поехать в Ригу вместе с фильмом — поклониться праху Собинова. А его не позвали. И пришлось раскрывать парашют абсолютного слуха и ловить чужие рассказы о том, как там всё было. И газеты хрустели, сообщая последние новости, и новые неожиданные происшествия случались в жизни нашего Красного Моцарта. У земли кружилась голова от восторга побед на одной шестой части суши.
Жизнь состояла из каких-то фрагментов воспоминаний, из звонков, разорванной нотной бумаги и голосов из прошлого. Однажды позвонил поэт Михаил Гальперин. Это была середина октября. Геня Дунаевский смешно передавал голос Гальперина — немного гнусавый, с аристократическими подвываниями.
— Дунечка, давайте тряхнём стариной, — это был неподражаемый голос Гальперина, голос, которым можно было иллюстрировать рекламу о вреде доносов, если бы таковую в то время снимали. — Я недавно перевёл на новый лад "Тартюфа".
Дальше шла радостная тирада о творческом процессе и о преимуществе писателей, живущих в домах по мандатам творческих организаций, перед писателями не живущими в домах по творческим мандатам. Дунаевский мог вспомнить — вспоминал же об этом его сын, — как подобными разговорами занимали себя деятели искусства в двадцатых годах. Впрочем, подобные разговоры актуальны в любое время.