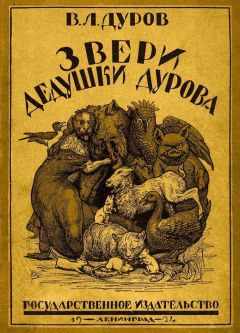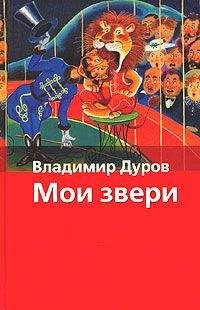Великий боже! На какие странные занятия осудила меня судьба моя! Мне ли кричать диким голосом, и еще так, что даже бешеная лошадь усмирилась!.. Что сказали бы прежние подруги мои, если бы услышали меня, так нелепо возопившую? Я сердилась сама на себя за свой вынужденный подвиг: за оскорбление, нанесенное нежности женского органа моим богатырским возгласом!
Красота местоположений и быстрый скок Урагана развеселили меня опять; я перестала досадовать и находила уже смешным и вместе необходимым средство, которым удалось мне смирить непокорного коня; но Ураган хотел, кажется, отплатить мне за минутный страх свой, а может быть, и чувствуя близость квартир, он начал храпеть, покручивать головой и галопировать с порывами. Я несколько оробела, зная, что когда он разгорячится, то, ничего уже не разбирая, скачет где попало; торопливые и неудачные усилия мои удержать его не служили ни к чему; я начала терять присутствие духа. Удивительно, как лошади могут скоро понять это и тотчас воспользоваться! Ураган полетел, как из лука стрела!
Хранил меня Бог, видимо, хранил! Разъярившееся животное летело со мною вовсе уже без дороги! Сначала я очень испугалась; но невозможность удержать лошадь, ни спрыгнуть с нее образумила меня; я старалась сохранить равновесие и держаться крепко в стременах.
Видно, в беде, как и в болезни, есть перелом: завидя вдали перед собой черную полосу, пересекающую путь мой, я обмерла и хотела сброситься с лошади; минута колебания отняла у меня время исполнить пагубное намерение; конь прискакал к истоку, клубящемуся в обрывистых берегах, и прямо бросился в него. Не помню, как я туда слетела с ним и как удержалась на седле; но тут и кончилось бешенство моего Урагана; исток был не шире трех сажен; укротившийся конь переплыл его вкось, взобрался с неимоверным усилием на крутой берег и пошел шагом, повинуясь уже малейшему движению поводов. Вышед опять на прямую дорогу, хотя он приметно вздрогнул от нетерпения нестись к своим товарищам, однако ж продолжал идти шагом, и, когда я позволила ему подняться в галоп, он галопировал ровно, плавно и послушно до самых квартир.
«Где изволили вояжировать? – насмешливо спросил меня ротмистр, – кажется, я поручил вам дождаться оставшихся людей, и с ними вместе вы должны были прибыть в эскадрон. Что ж вас задержало? люди давно уже здесь». – «Я долго стоял на одном месте, ротмистр; вы не дали мне проводника с факелом, а ночь была, вы знаете, темна, как погреб, итак, я не смел никуда съехать, чтоб не упасть в ров». – «Так неужели вы стояли, как конное изваяние из меди, все на том же месте, где я вас оставил?» – «Несколько минут стоял; но, разумеется, кончил бы тем, что постарался бы сыскать дорогу обратно к барону в деревню, если б лошадь моя не стала беситься, чего-то испугавшись: тогда я уже занялся только ею и…» – «И не могли сладить», – перервал меня ротмистр. От этой неуместной и неприличной укоризны досада вспыхнула в сердце моем; я взяла каску в руки, чтоб выйти вон, и отвечала сухо и не глядя на ротмистра: «Ошибаетесь! Я не хотел сладить: ни время, ни место не позволяли этого».
Как ни хотелось мне рассказать моим товарищам происшествие бурной ночи, однако ж я удержалась; и к чему б это послужило! Для них все кажется или слишком обыкновенно, или вовсе невероятно. Например, волкам моим они бы не поверили, сказали б, что это были собаки, что, может быть, и правда; а молодецкий скачок в реку делом столько обыкновенным, что даже нашли бы смешным слышать от меня рассказ этот за диковину. Им ведь не приходит в голову, что все обыкновенное для них очень необыкновенно для меня.
Прага. Здесь стояли мы до самой ночи; начальство города находило какое-то затруднение позволить корпусу нашему пройти через город. Наконец позволили, и мы прошли поспешно, не останавливаясь ни на минуту; за этим строго смотрели. Однако ж Ильинский, Рузи и я остались в трактире поужинать на скорую руку и после пустились догонять эскадрон вскачь, гремя по каменной мостовой. Немцы с испуга сторонились, и вслед нам раздавалось беспрерывное «швернот». Зима здесь необыкновенно холодна; немцы приписывают это нашествию русских и, пожимаясь перед камином, говорят, что если б они могли предузнать прибытие незваных гостей, то заготовили бы больше торфу.
Гарбург. Вчера было неудачное покушение потревожить спокойствие Гарбурга. С полночи выступили мы вместе с Конноегерским полком к стенам этой крепости и расположились ожидать рассвета, для того чтоб громить ее пушками. Меня со взводом отрядили прикрывать два осадные орудия; всеми нами командовал один из начальников Ганзеатических войск.
Рассвело; начали мы бросать в крепость бомбы и бросали часа два беспрерывно; зажгли там два или три дома, но удостоиться ответа не могли: гарбургский гарнизон как будто вымер; нам не отплатили ни одним выстрелом. И какая цель была нашего восстания, не могу понять. Я думала, что будет приступ; но вся тревога наша кончилась тем, что мы бросили в Гарбург несколько десятков бомб и ушли обратно на свои квартиры. Экспедиция эта сделала вред одной только мне.
В ожидании рассвета я легла подле орудия на мокрый песок и как теперь весна, то думаю, что от сырых испарений земли простудила голову и была целую неделю так жестоко больна, что меня нельзя было узнать, как будто после трехлетнего беспрерывного страдания.
Гамбург. Ничего нет смешнее наших объездов по пикетам. Пароли, отзывы, лозунги так искажаются нашими солдатами, особливо пехотными рекрутами, что и нарочно нельзя выдумать таких нелепых названий, какие им представляются сами собою, потому что это все нерусское. И что за охота на русских пикетах давать паролем немецкий город! Сверх этого, рекрут спрашивает пароль таким образом: «Кто идет? Говори! Убью!» (Но это пустая угроза: он боится прицелиться, чтоб ружье, сверх ожидания, не выстрелило.) После этого, не дождавшись ответа, кричит во весь голос: «Что пароль? Пароль город ***» – и скажет какую-нибудь нелепость; спрашивает и отвечает сам же, а подъехавшему офицеру остается только удерживаться от смеху; впрочем, во всем есть хорошая сторона: если б бестолковый солдат, которого никак нельзя вразумить, что он должен спрашивать, а не сказывать пароль, выговаривал его как должно, то неприятельский пикет, будучи очень близко от нашего, мог бы его слышать и воспользоваться им к невыгоде нашей; но как он слышит то, чего ни понять, ни выговорить нельзя, то остается все спокойно по своим местам.
Вчерашней ночью полковник наш едва было не сломил себе головы, и хотя происшествие это само по себе нисколько не смешно, но сделалось, однако ж, столь забавным случаем, что и сам полковник рассказывал его со смехом. Ему хотелось проверить исправность своих пикетов, и он поехал осмотреть их один. Разъезжая несколько времени и не видя часовых на тех местах, где им должно было быть, полковник сильно досадовал на неисправность пикетного офицера; он думал, что часовых совсем не поставили, и был выведен из заблуждения очень смешным образом, от которого едва было не погиб. Часовые были все на местах; но как ночь была темна, как черное сукно, то они, слыша проезжающего человека, вместо оклика, таили дыхание; один из них, на беду нашего полковника, заснул, сидя у пня, и от фырканья лошади проснулся, вскочил опрометью и дико закричал от испуга: «Что пароль? Лозунг “Гаврило!”», то есть архангел Гавриил. Лошадь кинулась в сторону и упала в яму вместе с своим всадником. По милости Бога, полковник отделался легким ушибом.